Пьеса потрясла меня: такая ярость, разрушительная сила и страсть. Все играли хорошо, потому что, как сказал Виндхэм, считали, что каждому досталась лучшая роль. Но по-настоящему яркая роль была лишь у Дэвида. Следя за его игрой, я поняла, наконец, почему Дэвид привез меня сюда: чтобы сыграть лучшую роль в этой ослепительной пьесе. Он подверг меня беспредельной скуке на свежем воздухе и, как он, наверное, предвидел, супружеской неверности. Он нашел себе оправдание: я чувствовала, что все это стоило того. В заключительной сцене, в своей последней речи умирающего, у него были строки, которые были ему ближе, чем все сказанное до этого; прижимая руку к «смертельной ране», он произнес:
«Вам не сорвать алмазный мой венец,
Я сам себе начало и конец».
И то, как это было сказано, и вся финальная сцена были совершенно потрясающими. Он вложил в свою игру ликующее удовлетворение, которое и было причиной, почему он стал актером. Все, чего ему хотелось от жизни, это способность и возможность выражать вот так, перед публикой, для большого количества затихших людей то, что он сам чувствовал. Он не просто радовался тому, что стоит на сцене: это было ощущение чистоты, ощущение бытия, созданные не им придуманными словами или ситуациями, определенными и ограниченными так, что его сила и энергия могли соединиться в едином, все объясняющем порыве. Дэвиду было недостаточно того, что я, его друзья и работодатели пытаемся понять его, потому что мы отягощали его своими заботами, требованиями и собственными мнениями. Ему была нужна лишь абсолютная зрительская восприимчивость.
И на этот раз он добился ее. Все согласились, что его игра была замечательной, спектакль был принят с восторгом. После, на приеме, который состоялся на квартире у Виндхэма, люди называли Виндхэма гением, а Дэвида величайшим актером со времени не знаю кого, и Дэвид напился в стельку, как и я. Это была намного менее официальная вечеринка, чем та, после «Тайного брака», на ней присутствовало гораздо меньше местных, и все много пили. Я едва перекинулась словом с Виндхэмом, только сказала, что на меня произвела впечатление постановка. На мои слова он отреагировал так:
– Какая ты недобрая, Эмма. Конечно, она была великолепна и, конечно, произвела на тебя впечатление. За кого ты меня принимаешь? Я взялся за эту постановку только потому, что я – единственный человек в Англии, способный осуществить ее.
Все остальные, кажется, пребывали в том же веселом заблуждении, преувеличивая собственную значимость. Все, кроме Майкла Фенвика, который был на грани истерики. Около двух ночи Дэвид стал со всеми задираться и, когда он привязался к Джулиану с бестактным вопросом: «Почему бы тебе не взглянуть в зеркало и не сбросить раз и навсегда личину школьника?» – я решила уйти.
Я шла домой одна, снова одна. Я всегда возвращаюсь домой одна, я предвидела это и думала, что полюблю. В душе я ощущала раздражение. Подойдя к мосту, я увидела лебедя, плывущего вниз по широкой реке, и спокойствие этой картины в сравнении с тем, что я оставила позади, наполнило меня чувством безнадежности.
Я буквально вскарабкалась по лестнице на четвереньках, так я устала от выпитого и от долгого недосыпания. В спальне я уставилась в зеркало и сказала вслух: «Виндхэм». Его имя звучало крайне глупо. Я принялась с яростью срывать с себя одежду, бормоча: ну что за смешные у них имена – Виндхэм, Виндхэм, Дэвид Эванс, какая парочка чванливых жалких заблуждающихся глупцов, какие folie de grandeur, кажется, они не понимают, что театр – это тупик, искусство для меньшинства, что никто туда не ходит, кроме актеров и их жен; они думают, что сделали что-то грандиозное, эти двое, считают себя знаменитыми только потому, что в местной газетенке им уделили пару колонок. «Какая ты недобрая, Эмма, – как бы отозвались они оба, – какая ты недобрая, разве ты не знаешь, какой я великий человек?». Да, да, совершенно бессмысленно все их «искусство», и почему оно должно меня вдохновлять? Я знаю, что это нереально, знаю, что эта слава – лишь верхушка айсберга, а остальная жизнь, настоящая слава, настоящая сила не имеют с ней ничего общего. Я знаю, что они так не считают, эти поп-звезды, кинозвезды, рыцари и дамы, герцогини и Перси Эдвард Фаррар, член Королевского общества науки, и Лаура Монтефиоре, – я все это знаю, и почему я вообще должна их слушать? Но я слушаю, я отличный слушатель, я не только слушаю, я рассчитываю. На любовь, на хлеб с маслом, на компанию. И завишу от дешевой, безвкусной, мишурной, никчемной, продажной строчки о них в разделе театральной критики…
Утром мы с Дэвидом лежали в кровати, покрытые хрустящей массой газет: у нас были все ежедневные выпуски, а Флора ползала по ним, мешая читать. В каждой газете был положительный отклик о Дэвиде, никто не обошел его вниманием. Он лежал, откинувшись на подушки, полный осознания собственной важности, и подзадоривал Флору рвать все подряд, и обозрения, и фотографии. Он не собирался читать критические заметки и был рад видеть, что она с таким азартом уничтожает свидетельства его славы. Флора с энтузиазмом откликнулась на его хорошее настроение и принялась скакать по нему, вырывая волоски на его груди, и совать бумагу в уши. А я лежала и смотрела на них спросонья и не ощущала особого желания простить его и никакой надежды на прощение с его стороны; ничего подобного, лишь какое-то смутное понимание того, что я слишком хорошо его знаю, чтобы симпатизировать его чувствам.
Как только волнение от премьер улеглось и мое меняющееся от обожания до неприязни настроение прошло, я обнаружила, что дошла до предела, чему причиной был, несомненно, Виндхэм Фаррар. Я принялась отсчитывать часы до нашей следующей встречи, как в свое время считала часы до окончания занятий в школе. События вокруг меня происходили в странной бессмысленной последовательности: мы ели, спали, я ходила за покупками, кормила детей и ощущала себя постоянно словно пьяной. В шестнадцать лет ощущение, когда тебя никто и ничто не волнует, было приятным; ничтожность моей теперешней жизни в сравнении с огромными масштабами ожиданий превращала меня в ходячую сомнамбулу. И теперь Дэвид казался мне таким же нереальным, похожим на тень, какой когда-то казалась моя мать; мне едва верилось, что у меня есть дети. Они улыбались мне и я отвечала им улыбкой, как любым детям в парке, чужим детям, и это было по-настоящему больно.
Не знаю, как мне удалось дожить до нашей следующей встречи с Виндхэмом. Время точно пошло вспять: нет, оно не остановилось полностью, но стало вязким, словно глина, поэтому преодолевалось с трудом. Когда же наконец наступили день и час, признаюсь, несмотря на жалость к себе и домашние заботы, моя готовность на связь была намного больше, чем у большинства женщин. Все было очень просто. Дэвид ушел в театр в полседьмого. У меня было время выкупать Флору, дать Джо его бутылочку и переодеться, прежде чем встретиться с Виндхэмом на углу улицы. Паскаль думала, что я иду в кино. Проще и быть не могло и мне казалось, что я была свободна идти куда угодно.
Однако вечер начался просто ужасно. После стольких ожиданий меня охватило сомнение, как только я его увидела. Он же, казалось, решил, что мы достигли определенных подвижек в своих отношениях и повел себя слишком напористо. Когда наступило время ужина, я чувствовала себя нервной и озлобленной. Все же я не пришла ни к какому выводу в тот момент: настолько сильно страсть искажает чувство реальности. И действительно, нельзя было ошибиться, страсть витала где-то поблизости. Я впитывала каждое его слово, каждый жест: его комплименты очаровывали, взгляды пронизывали насквозь, но я знала, что мне нравился именно он, со всеми недостатками. Во-первых, он был ужасный хвастун: испортил большую часть своих рассказов негалантным упоминанием широко известных во всем мире имен. Конечно, он был знаком с этими людьми: я и не сомневалась, но какая необходимость была рассказывать мне об этом? Это развенчивало его, принижало его собственную значимость. Я сидела и слушала, ощущая то восторг, то раздражение, и мечтая временами, чтобы он просто заткнулся.
Когда мы вышли после ужина на улицу, еще не стемнело. Ему не хотелось пить кофе, и у меня появилось дурное предчувствие, но когда мы сели в машину, он сказал:
– Мы могли бы теперь немного прокатиться. Здесь есть неподалеку одно местечко, которое мне хотелось бы тебе показать. Тебе ведь еще не пора домой?
– Я должна быть дома к половине двенадцатого, – ответила я, но сейчас было всего начало десятого. Мысль о том, чтобы поехать прокатиться, показалась мне привлекательной: вечер был прекрасный, по небу быстро бежали облачка. Но ехать далеко не пришлось. Через несколько миль по дороге, казавшейся слишком узкой для автомобиля Виндхэма, мы подъехали к какой-то маленькой деревушке. Из окна машины я увидела церковь наверху крутого холма, и мы остановились возле высокой кирпичной стены.
– Где мы? – спросила я, осмотревшись: я чувствовала, что он приехал сюда неспроста.
– В деревне, – ответил он. – Дом за этой стеной принадлежит моей тетке. Я подумал, что мы могли бы приехать и взглянуть на него.
– Она дома? – поинтересовалась я.
– Она умерла. Думаю, дом выставлен на продажу, и мне захотелось хотелось посмотреть на него, прежде чем его разрушат. Хочешь пойти со мной?
– Конечно, – сказала я, внутренне удивляясь, как это он так точно выбрал экскурсию, которая для меня представляла огромный интерес.
Даже стена выглядела прелестно: кирпич был старым, светло-красным, и поблескивал в угасающем свете. Мы вылезли из машины и пошли к воротам. На ногах у меня были туфли на высоком каблуке, они утопали в траве и грязи на каждом шагу. Возле самых ворот висело объявление о продаже: «Резиденция, известная под названием Биннефорд-хауз, расположена в Биннефорде, бывшая собственность мисс Марджори Фаррар. Будет выставлена на аукцион 16 июня вместе с домиком садовника и двенадцатью акрами земли». Я остановилась и прочитала подробное описание системы центрального отопления и расположения комнат, а Виндхэм пошел дальше один. Когда я наконец последовала за ним и завернула за поворот подъездной дорожки, я увидела его, а за его спиной – этот необычный дом. Он был огромен и так прекрасен, что я поразилась: большое строение XVIII века, массивное, но удивительно элегантное, из серого и розового камня, с окрашенными белой краской дверьми и многочисленными пропорциональными окнами, утопающее во вьющихся растениях. Мы находились от него на расстояние примерно двухсот ярдов и могли полностью охватить его взглядом.

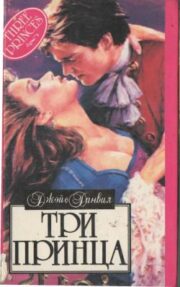
"Открытие сезона" отзывы
Отзывы читателей о книге "Открытие сезона". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Открытие сезона" друзьям в соцсетях.