— Я что, мешаю? — Витька раздраженно оглянулся на друга, с которым уже не первый год они вместе на дистанциях шли, как говорится, ноздря в ноздрю, но благодаря то ли природной удачливости, то ли еще чему Витьке на последних метрах удавалось вырваться хоть на долю секунды вперед.
— Мешаешь, — как-то равнодушно пожал плечами Серега. Было видно, что его просто раздирало любопытство.
— А чем я мешаю?
— Чем-чем… Сосредоточиться не даешь, вот я и проигрываю.
— А ты обо мне не думай, о себе думай. — Витька отошел в сторону, опустился на скамейку и, не расстегивая, стянул с себя куртку. Волосы его при этом встали дыбом, и не успел он пригладить их рукой, как у него за спиной раздался смех. Витька зажмурился. О, сколько раз он слышал этот смех, но где-то в отдалении, где-то за пределами видимости. Просто смех, но как он действовал на него. Несомненно, этот смех принадлежал именно ей, Олечке Рябовой.
Витька вскочил как ошпаренный и оглянулся. Оля стояла в двух метрах от него и разговаривала с тренером. Их взгляды пересеклись, на короткое мгновение Оля затихла, а потом показала на него пальцем. Тренер посмотрел в указанном направлении, и снова раздался смех. Теперь уже оба смеялись над ним.
Витька только сейчас почувствовал, что смотрит на Олю с открытым ртом. Он сомкнул челюсти, пригладил стоящие торчком волосы и, густо зардевшись, отвернулся. До его слуха донеслось приглушенное воркование.
— А ничего мальчик, да? Смешной такой…
— Ну да, ничего… То есть совсем ничего. — Голос тренера слегка напрягся. Он немного помолчал и добавил: — Не о том, Рябова, думаешь. Чего молчишь? Я ведь знаю, о чем ты молчишь! На хрена он тебе такой нужен? Вот я — нужен. Смотри, Рябова, жизнь штука сложная… Когда тебе помогают, нужно уметь быть благодарной. От общества ничего не зависит. Общество — абстрактное понятие. Оно тебя один раз выплюнуло и еще выплюнет, охнуть не успеешь. А я тебя, как овечку, веду. И выведу, не сомневайся…
— Не сомневаюсь, — едва слышно выдохнула Оля, и на душе у Витьки, расслышавшего этот покоробивший его тихий разговор, стало темно и душно.
Смотреть на Рябову Витька не перестал. Он просто не мог не смотреть на нее. Не смотреть означало почти то же, что и не дышать. Ведь невозможно жить, не вдыхая очередной порции воздуха, и он, словно чумной, ходил за своей «очередной порцией», хотя Оля совершенно не замечала его. Или делала вид, что не замечает.
Не имея никакого опыта общения с противоположным полом, он выписывал вокруг Рябовой концентрические круги, не смел приблизиться к ней, заговорить и страшно страдал при этом. В его мозгу звучал один и тот же вопрос: «Зачем он тебе такой нужен?» Витька вдруг ощутил свою бездарность, никчемность, ненужность. Хоть волком вой, хоть головой об стенку.
Но как-то раз их вывезли на экскурсию. Оленька шла немного в стороне от группы, и Витьке показалось, что делает она это специально, чтоб обратить на себя его внимание. Он даже почувствовал, неуверенно, боковым зрением, будто Оленька тайком его разглядывает. Он резко оглянулся, но Оленька уже, весело встряхивая тонкой косичкой, глазела на Эйфелеву башню. Витька посмотрел по сторонам, тренера Рябовой поблизости не намечалось, и он все-таки решился.
— Здравствуй, — Витька легонечко коснулся ее плечика, и девочка вздрогнула.
— Здравствуй, — ответила она, улыбнувшись, но почему-то посмотрела не на него, а куда-то вдаль. Это неприятно задело Витьку. Воспоминание о ее тренере еще раз больно-пребольно кольнуло его самолюбие. Стало как-то гаденько и противно, но, отбросив эти «телячьи сомнения», Витька собрал в кулак все свое самообладание и продолжил:
— Я бы хотел… — произнес он и запнулся. В руках у него был огромный букет роз, они щекотали ноздри едва уловимым, почти не фиксируемым в сознании ароматом и волновали глаз нежным кремовым свечением. Девочка взглянула на цветы, машинально протянутые ей окончательно растерявшимся Витькой, небрежно взяла их и усмехнулась нехорошим смешком. Потом она сказала то, чего Витька совершенно не понял:
— Не ты один хотел бы, — это было произнесено так многозначительно, что где-то на уровне подсознания до Витьки дошло, что за этой фразой стоит что-то нехорошее.
— Я бы хотел сфотографироваться с тобой, — краснея, промямлил Витька упавшим голосом. Но Оля вдруг лучезарно улыбнулась и радостно подхватила его под руку. Грациозно выгнув спину и отведя плечико назад, Оленька оттопырила локоток, окликнула фотографа и произнесла несколько фраз по-французски.
— Ты… знаешь французский? — это открытие вознесло девочку в его глазах на такую высоту, что он даже захлебнулся от восторга.
— Да, — просто ответила она, — и еще немецкий и английский. А ты? — Витька смотрел в просветленные глаза Оли и… погибал.
— А я… — попытался сказать он, что никакого, кроме русского, языка он не знает, но зачем-то торопливо, глядя прямо в ее светлые очи, выпалил: — Японский и хинди.
Он надеялся, что сейчас Оля не сможет выяснить, врет ли он или же говорит правду, а к тому времени, когда они поженятся, а поженятся они обязательно, Витька выучит и японский, и хинди, и английский с французским. Почему бы и нет? Наверняка это не так уж сложно, ведь вон даже маленькие дети, он оглянулся по сторонам на французских младенцев, лопочут на иностранном.
Главное, сказать сейчас Оленьке, что он любит ее, и заручиться обещанием подождать до совершеннолетия. Конечно же, она согласится…
Блеснула фотовспышка. Фотограф отошел, а Витька открыл было рот, чтобы раскрыть перед Оленькой свою душу, как к ним неслышно, откуда-то сзади приблизился тренер Оленьки.
— Рябова, почему отстаешь от группы? — строго спросил он и грубо потянул ее за руку. Витька не слышал, о чем говорили эти двое, но видел, что лицо у Оленьки было очень виноватым, а у тренера очень сердитым.
«Странно», — мелькнуло у него в голове. Он проводил взглядом предмет своих детских фантазий и уныло поплелся следом, глядя уже в другую сторону.
Вечером того же дня он пробрался тайком к Олиной комнате, решив в обязательном порядке сегодня же раскрыться перед ней и для успокоения собственных мук услышать из ее уст подтверждение совместных перспектив. Осторожно стукнув в коричневую обивку двери, он прислушался к звукам внутри комнаты.
Сначала он не услышал ничего, но затем, затаив дыхание, уловил какое-то копошение, ритмичный скрип, стук, словно бы девочка прыгала на батуте. Потом ему показалось, что она плачет. Вернее, всхлипывает и стонет. По наивности своей Витька решил, что Оленька ушиблась и ей срочно необходима помощь. Постояв так, прислонившись ухом к замочной скважине и напрягшись всем своим телом, он не выдержал, когда до его слуха донесся крик, и с силой, резко толкнул дверь.
То, что Витька увидел, пронзило его мощным электрическим разрядом. Оленька, его любимая ангелоподобная, золотоволосая девочка, стояла в омерзительнейшей коленно-локтевой позе на краю большой двухспальной кровати, и огромный волосатый мужик…
Тренера он узнал лишь тогда, когда тот уже оделся и волок упирающегося Витьку обратно в номер. Скандала не было, не было вообще никаких разговоров о произошедшем, если не считать хрипа сквозь сжатые губы:
— Только слово от тебя, и ты — труп, горсточка пепла. Понял?
— Уйдите, — ответил дрожащим голосом Витька. — Оставьте меня. — Он говорил тихо, но внутренний голос его раздирал пылающую черепушку недетским звериным криком. Глаза жгло, и он чувствовал, что уже умер и становится этой самой горсточкой пепла.
Так, одиннадцати лет отроду, у него что-то сломалось внутри, сломалось с громким хрустом и помутнением рассудка. Какое-то время боль была острой и непереносимой. Витька все-таки узнал, откуда берутся дети. Открытие было для него шоком, а утром, внимательно заглянув в зеркало, он обнаружил, что из миловидного вихрастого мальчика, на волосы которого мама дурашливо повязывала белые банты сестры, он превратился в крепкого, широкоплечего юношу с красивым, гибким телом и худым, измученным тайными страданиями взрослеющей души лицом. Отражение смотрело на него большими оливковыми глазами и казалось каким-то незнакомым и странным.
Началось мучительное время — Витька страдал, томился и чах. Ему хотелось поделиться хоть с кем-нибудь своей болью, но рассказать об увиденном он не решился бы даже под страхом смерти. И вовсе не потому, что ему пригрозил тренер Оленьки Рябовой, а потому, что произнести это вслух значило для него почти то же самое, что увидеть и пережить все заново. А этого он бы уже не вынес.
В таком горячечном бреду прошли каникулы. То лето он проводил вместе со всеми участниками соревнований в спортивном молодежном лагере. Бегая, как волк, до семьсот семьдесят седьмого пота, он радовал своего тренера трудолюбием и целеустремленностью и пугал врачей неестественной для его возраста самоотверженной, почти маниакальной спортивной страстью.
Оленька пришла к нему сама. Почти под утро накануне дня отъезда она постучала в его дверь, и Витька, точно зная, что это не может быть кто-то иной, стремительно сорвался с постели и распахнул перед ней двери так быстро, что та даже отпрянула.
— Впустишь меня? — кокетливо опустив ресницы, спросила девочка.
— Входи, — быстро ответил он и запер за ней дверь на щеколду.
Какое счастье, что у его соседа по комнате в Париже был дядюшка, который забрал к себе племянника на неделю, и Витька остался в номере один.
— Садись, — он указал на стул, но Оленька грациозно присела на краешек кровати.
— Здесь удобней, — произнесла она и закинула ножку на ножку, обнажив птичье тоненькое колено и такое же тоненькое, но крепкое и жилистое бедро. Витька отвел взгляд в сторону. Он о чем-то говорил с ней, жестикулировал, натужно смеялся и шутил. Оленька тоже смеялась, и тоже каким-то нервным искусственным смешком. Потом она легла на его подушку, хранившую еще не отлетевшую в высь тайну сна, и Витька поглядел на гостью с испугом.

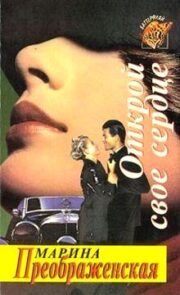
"Открой свое сердце" отзывы
Отзывы читателей о книге "Открой свое сердце". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Открой свое сердце" друзьям в соцсетях.