— Ну?
— Как будто у нее там внутри… Боже мой, я не знаю, как это объяснить! Мне было жутко! На улице гром, молния. Я слышу гром и вижу молнию. Она говорит: «Я не могу оставаться, это за мной. Я ухожу…» И вдруг в ее глазах появилась мольба. Она ничего не сказала, она не разомкнула губ, а только молча смотрела на меня, и я увидела — вас. Я, понимаете, увидела вас. Я знала, что должна отыскать вас и сказать вам, что вы… — она беспомощно огляделась вокруг, словно ища поддержки у невидимой силы. Но никто не собирался ей помогать. Медсестра сжала кулачки, уткнула их в свой прозрачный лобик с пульсирующей венкой у виска и отчаянно встряхнула головой. — Она прощает вас, она знает, что вы любите другую… Она поможет вам. Понимаете?
— Да нет… Это ваше воображение… Такого не бывает. Это ваше воображение, вы ведь на практике, да? Вы впервые сталкиваетесь со смертью? Посетите врача.
— Я спросила у нее, как зовут девушку, которую вы любите.
— И что же она вам ответила? — сквозь слезы улыбнулся Витька.
Руки медсестрички опустились, она прислонилась к дверному косяку и пропавшим голосом уронила:
— Глупости… Лучше жить в неведении. — Медсестра подняла глаза. — Ничего не ответила. А что она должна была мне ответить?
— Прощайте, — проронил Витька и пошел вниз.
— А потом я проснулась, и она уже была мертвой, — прошептала медсестра и, растерянно озираясь по сторонам, одними губами сказала: — Воображение… Как же!
Соревнования, на которые приехал Витька, оказались для него последними. На очередном забеге дистанцию с барьерами он проходил со значительным опережением своих соперников. Но неожиданно у него подвернулась нога.
Витька растянулся во весь свой рост на покрытии беговой дорожки. Он сильно ударился головой, получил сотрясение мозга и провалялся в больнице месяц с переломанной ногой. Впрочем, все это ерунда. Он легко переносил физическую боль, не раз приходилось ему преодолевать увечья, спорт на то и спорт. «Борьба, — как наставлял его тренер, — только борьба! Хлюпикам и нытикам не место в большом спорте». И Витька сам это прекрасно понимал.
Гораздо более разрушающее воздействие на него произвела смерть Нонны. Он-то и не любил ее по большому счету, но чувство вины, которое, когда Нонна еще была жива, раздражало его и постоянно подталкивало к разрыву, вдруг обрело невероятные формы.
«Вы эгоист, породистый самец…» — снова и снова вспоминал Витька слова доктора, на руках которого умерла Нонна, видел перед собой его глаза, полные презрения и бесконечной острой усталости.
Витька решил для себя, что со спортом, во всяком случае профессиональным, покончено. Он предполагал когда-то сделать карьеру профи, для того, чтобы обеспечить себе безбедное существование в одной из западных стран, но теперь — все. Нет у него никаких сил и возможностей.
Ко всему прочему, так или иначе, Витька уже успел скопить пусть небольшую, но достаточную сумму, чтобы купить себе приличный скромный домик в одной из стран социалистического содружества. Осталось выбрать, в какой из них, и продумать, как туда эмигрировать.
В Будапеште у Витькиных родителей были хорошие друзья, в Германии — родственники. Но дальние, так, седьмая вода на киселе. Друзья, пожалуй что, ближе.
Витька любил Будапешт и не однажды бывал там. В этом гостеприимном и теплом городе, наверное, он бросит свой якорь. Только для начала нужно закончить образование, чтобы уехать туда уже специалистом.
Витька замкнулся в своей квартирке. Не хотел никого ни видеть, ни слышать. К телефону он не подходил, на звонки не отвечал и практически ни с кем не общался.
Смерть Нонны вызвала в городе волну пересудов. Как ни странно, больше всего досталось самой Нонне. Может быть, потому, что небольшой провинциальный городок со своими весьма ханжескими и пуританскими нравами всегда строже относился к женщине, нежели к мужчине. Нонну похоронили тихо и незаметно. Только однажды Витька побывал на ее аккуратненькой, засаженной цветами могилке. Белая мраморная плита с кружочком, в котором под полиэтиленовым покрытием уже намокла и стала выцветать ее фотография.
Каждый день, три месяца подряд, его томили муки отчаяния и немыслимого одиночества. Каждый день, три месяца подряд, его душу рвала на части неимоверно пластичная, дикая и вольная, как сама природа, как сама страсть — вдохновенная Алинкина мелодия.
Он вспоминал ее лицо, освещенное мутным штрихом лунного луча, представлял себе ее юное тело, большие грустные глаза. Воображал, как бы он мог любить ее, сладострастно и самозабвенно. Любить не в физиологическом смысле, а любить каждой клеточкой, всеми фибрами своей истомленной души.
Вот ведь надо же — девчонка, а как глубоко проникла она в него! Ни одна из женщин не пробиралась дальше поверхностной оболочки и не ранила так больно, даже случайным, оброненным ненароком, пугливым или откровенно зовущим взглядом.
15
Осень кошачьей походкой, бесшумно и грациозно подобралась к городу. Солнце светило так, словно хотело отработать за все холодные и дождливые часы лета. Листья из молочно-изумрудных постепенно превратились в медно-золотые и тихо шелестели под легким, едва ощутимым ветерком.
Алинка стояла у подъезда и смотрела на двор. Еще пару деньков, и начнутся занятия в школе. Начнутся занятия и в институте, Витька уедет, укатит по пыльной дорожке, даже не обернется на ее окна. Почему-то именно так думала Алина.
Мама болела и, судя по всему, жить ей осталось считанные дни.
Домой идти не хотелось. Вот так бы стояла и стояла, глядя на теплые взбитые пуховички легких облачков. Облака были снизу подсвечены персиковым оттенком вечереющего солнца. По телевизору показывали какой-то фильм, и двор был практически пуст. Только в дальнем углу на обшарпанной скамейке сидели несколько подростков и, фальшиво бренча на гитаре, завывали какой-то мотивчик, отдаленно похожий на битловский хит. Алинка поморщилась от неудобоваримого диссонанса. По коже ее пробежали мурашки. Она очень чувствительно относилась к звукам. Никакой природный звук не мог вывести ее из себя, но вот эти корежащие и выворачивающие нутро аккорды доводили ее до исступления.
— Привет! — крикнул один из ее мучителей и радостно взмахнул рукой.
Алинка кивнула, слегка удивленная таким вниманием. Обычно она не общалась с ребятами во дворе. У нее есть давняя, привычная уже, как старый шарф, в который удобно завернуться в холодную погоду, и который так просто забыть в тепле, подруга. Не так, чтобы ах какая, но вот уже восемь лет они делятся друг с дружкой разными девичьими тайнами.
Ленка Заилова неплохая в принципе девчонка, но что-то в последнее время в их отношениях расстроилось.
Заилова рассказывала о своих мальчиках. Она хороша была — просто прелесть. Алинка, когда смотрела на нее, всегда по-хорошему завидовала. «Мне бы такую внешность, — мечтательно вздыхала она в подушку. — Носик аккуратненький, губки бантиком, ямочки на щеках… Мне бы такую… Я бы тогда от Витьки и прятаться не стала. А так — смотреть противно. Рот до ушей, родинки через всю щеку. Фу! Конечно, он на меня и не посмотрит».
Алинка оглянулась на свое отражение в стекле подъездной двери. Фигурка вроде бы ничего, вот только попка, кажется, тяжеловата. «О-о, Бо-оже!» — едва не застонала она и отвернулась от своего отражения.
Единственное, что ей нравилось в себе, так это глаза. Их даже подводить не надо, и ресницы красить не приходится. Вон девчонки в классе замучились в поисках туши. Наша-то везде лежит. Бери, покупай, но она то осыпается, то течет, то глаза раздражает. А французская стоит ужас каких денег, и ко всему прочему ее не достать нигде.
Может, за эти глаза ее Антошка и любит. Алинка улыбнулась, славный мальчик Антошка. И ухаживает славно. Цветочки носит. Вот вчера, например, пока ее дома не было, принес целый букет. Тонкие, почти прозрачные фиолетовые колокольчики нежными звездочками умиляли глаз среди больших ромашек. А в центре — высокая веточка какой-то травки, похожая на елочную, но гораздо мягче и шелковистей. Букетик торчал в дверной ручке и сверху, над букетиком была прикноплена записка. Всего три буковки: ЮЮЯ.
Алинка улыбнулась. ЮЮ — обозначало «люблю», а Я — только то, что это он, то есть Антошка. А Алинка и так бы ни с кем его не спутала. Ну кто еще может дарить такой дурнушке цветы?
Алинка поспешила домой. На душе у нее стало легко и радостно. Огорчение от того, что скоро начнется учебный год, Витька уедет, и у нее даже не будет надежды хоть издали, сквозь занавески своего окна посмотреть на его ладно скроенную фигуру, улетучилось.
Хотя, чего печалиться, что Бог ни делает, все к лучшему. Зато у нее будет возможность привыкнуть к мысли, что его здесь нет, и не нужно будет напрягаться всем телом, вслушиваясь в каждый шорох, каждый шаг по ступенькам, в попытке различить, кому он принадлежит. Не Витьке ли? Она сможет расслабиться, заняться своими делами. Сможет посвятить себя музыке, занятиям в школе, больной маме. И будет спокойно ждать ближайших каникул. Одно страшно, а вдруг он там, вдалеке, встретит девушку, влюбится, женится. Алинка по-прежнему не знала, как живет ее любимый. Какой у него круг интересов, с кем общается. Она жутко ревновала его ко всем сплетням вокруг него, но ни разу не видела его с женщиной.
Трагедия с Нонной и слухи о том, что ребенок Нонны — его ребенок, конечно же, достигли ее ушей. В первую очередь ей сообщила об этом Заилова.
— Знаешь, — сказала она через несколько дней после случившегося, просматривая некролог на последней странице местной газеты, — а Витька-то этот…

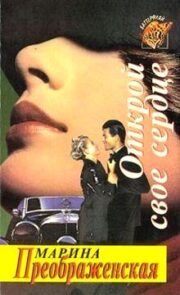
"Открой свое сердце" отзывы
Отзывы читателей о книге "Открой свое сердце". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Открой свое сердце" друзьям в соцсетях.