— Сие, драгицо. Гудь водь? — спросил бармен у вошедшего Витьки, и Алина как-то механически отметила про себя, что и тут понимает, о чем говорят мужчины. На вопрос «Как дела?» Витька стал что-то рассказывать бармену, то и дело называя его Тони. Какое симпатичное имя, решила Алинка. И как оно идет этому человеку. Алинка оглянулась. Взгляд ее скользнул по соседнему столику, по белому концертному роялю в углу, по стойке бара, по ряду сверкающих дивным хрусталем фужеров и, словно рыбешка в сеть, попал в чистый обволакивающий взгляд Витьки. Витька стоял вполоборота к стойке бара и, разговаривая с Тони, безотрывно смотрел на Алинку. Тони перебирал диски на специальной подставке рядом с музыкальным центром и не обращал на переглядки своих гостей ни малейшего внимания. Наконец Тони поставил диск, нажал клавишу, и мягкая оркестровочка поплыла под потолок, обволакивая болезненно обнаженную душу девушки.
Словно кролик перед удавом, вся внутренне напряженная и трепещущая, Алинка не могла отвести глаз от гипнотических зрачков усмехающегося, чертовски красивого и сильного мужчины.
— О! — присвистнул Витька и щелкнул пальцами. Он повернулся к Тони и спросил что-то, чего Алинка понять не сумела. Одно она поняла безошибочно, этот вопрос касался ее, потому что бармен моментально поднял веки и посмотрел ей в лицо. Улыбаясь, он стал рассказывать Витьке, вероятно, о их недавней беседе, а Алинка все смотрела на них, выглядя, по всей видимости, нелепо и смешно. Наконец Тони умолк, и Витька медленно, аристократически-надменным движением повернулся к ней и неспешно подошел.
Слава Богу, Алинка успела справиться с собой, и к тому времени, как молодой человек приблизился к ее столу, она уже перелистывала страничку, внимательно вчитываясь в текст.
— Экскьюз ми, — тихо произнес Витька.
— Да, — вскинула веки Алинка и, глубоко вздохнув, мягко и тепло улыбнулась. — Очень приятно, что вы говорите по-английски.
— Да, очень приятно. Но я плохо говорю… по-английски. Я гораздо лучше говорю по-французски.
— Надо же! — воскликнула Алинка. — Что ж, мы можем поговорить и на французском. Но, если честно, я его знаю гораздо хуже английского.
— Вы англичанка?
— Не совсем. — Алинка пожала плечами. — Но этот язык мне почти родной.
Витька достал из кармана брюк «Мальборо» и зажигалку.
— Курите? — кивнул он на пачку, выщелкивая из нее большим пальцем снизу сигарету.
— Нет, а вы… Давно? — Алинка осеклась, едва не проговорившись. Она ведь знала, что еще совсем недавно Витька не притрагивался ни к сигаретам, ни к вину.
— Давно… — неопределенно хмыкнул Витька. — Недавно-давно. А впрочем, какое это имеет значение? — Он привычно оживился.
Нет, конечно, это не та девушка, которую он когда-то знавал. Нет, не та… Но все равно — хороша. Как много он видел хорошеньких, длинноногих и не очень, худощавых и плотненьких, высоких и низкорослых. Как много… Пожалуй, даже чересчур.
— Почти родной, говорите, — выигрышный прием, не дав ответа на вопрос собеседника, запудрить ему мозги всякой ерундой и тут же спросить о своем. Уж кто-кто, а он, врач-психоаналитик, пусть с небольшим стажем частной практики, знал это прекрасно. — А позвольте узнать, какой язык вы считаете родным?
Алинка вслушивалась в каждый произносимый им звук с таким наслаждением, будто смаковала терпкое благородное вино многолетней выдержки. Она не вникала в суть его фраз, улавливая лишь оттенки интонации, мелодию слов. Голос его нисколько не изменился, только речь приобрела специфический венгерский акцент. Смягченные согласные, округленные гласные, напевный южный выговор.
— Так какой же? — повторил свой вопрос Витька, и Алина чисто механически ответила:
— Русский.
— Русский? — Витька с изумлением уставился на девушку. Он все еще мял в пальцах неприкуренную сигарету. Витька заволновался, поднес сигарету к губам, подержал ее у рта и положил на стол возле смятой пачки и чистой, сверкающей матовым светом пепельницы. — Мы с вами земляки, оказывается… — тихо произнес он по-русски, и в глубине его темных глаз мелькнуло тревожное сомнение. — Но… простите… Мы до сих пор так и не познакомились… Вас зовут…
— Я думаю, это не имеет значения. Ну, земляки, и что же? Я не знакомлюсь с мужчинами в барах… — тихо, чтобы скрыть волнение, но и не показаться слишком напуганной, ответила Алинка.
— Тони! — крикнул Витька. — Тони! — Из двери, ведущей в подсобное помещение, показалась голова бармена.
— Выпьете? — спросил Витька у Алины и, не дожидаясь ответа, заказал два бокала шампанского.
— Спасибо, нет. — Алина сняла со стола руки и положила их на колени. Ее почему-то охватило сильное волнение, и, решив, что легкое нервное подрагивание кистей непременно выдаст ее с головой, она напряглась.
«Неужели узнал? Боже мой, — запаниковала Алина, — что же мне делать? Уйти? Уйти! Конечно же, уйти!» Но какая-то невероятная сила удерживала ее за столиком. Тони подошел с шампанским и шоколадом. Опустив жалюзи, он зажег на их столике две свечи, и спотыкающиеся тени разбежались по стенам.
— Почему вы не хотите назвать своего имени? — Витька внимательно рассматривал ее лицо. Так внимательно, что Алинке показалось, будто она физически ощущает настойчивое движение его взгляда по своей коже. Витька ждал, Алина взяла неприкуренную сигарету, повертела ее в тонких длинных пальцах и, неожиданно для себя чиркнув зажигалкой, глубоко втянула импортный аромат.
— Не знаю… почему, — голос ее был спокоен, в отличие от сердца. О, как она теперь была благодарна мэм Стинли, научившей ее никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в каких ситуациях не выдавать своего внутреннего состояния! «Что за слезы?! Настоящая леди не позволит себе такой роскоши — плакать прилюдно» или: «Мисс Элин (именно так называли Алинку в школе), сбавьте свой темперамент и понизьте голос на полтона. Это неприлично — разговаривать так громко».
— Вы давно здесь живете? — поинтересовалась Алинка только для того, чтобы увести тему разговора в другую сторону. Она и без ответа прекрасно знала, сколько лет живет Витька в Венгрии.
— Давно, то есть… недавно… А в общем, я не знаю… Все относительно. Как вы думаете, — Витька вперился своим немигающим, пытливым взглядом в непроницаемые стекла очков Алины и осторожно понизил голос, — семь лет — это много или мало?
— Семь лет… — Неожиданно что-то изменилось. Смолкла музыка или хлопнула дверь? Загромыхал самосвал или просто погасла сигарета? Что-то изменилось, непонятно что, но Алинке вдруг захотелось рассказать ему, как она страдала все эти семь лет. Как незаслуженно, невозможно страдала эти мучительно долгие и стремительно мгновенные невосполнимые годы одиночества.
Ей захотелось взять его руки в свои, расплакаться в горячие сильные ладони, прижать их к своей груди и поведать о том, как она просыпалась по ночам от того, что ей казалось, будто он рядом, будто он стоит у изголовья и ждет ее пробуждения. Или невидимой тенью лежит за ее спиной. Касается своими сильными, но аристократически тонкими пальцами ее жаркой кожи, разжимает ее жадные губы своим сладким безумным поцелуем…
— Простите, — прошептала Алинка, нервным горячечным движением пытаясь спрятать в кармашек сумки томик Паскаля. — Мне нужно идти… Мне очень нужно… У меня дела.
— Но вино, — попытался удержать ее за руку Витька, и на том месте, где отпечатались его пальцы, словно вспыхнул ожог.
— Нет-нет, — Алинка все еще не могла справиться с книгой и сумкой. Она заторопилась к выходу, словно боясь, что еще одно такое прикосновение, и она будет не в состоянии справиться с собой. — У меня действительно масса дел… — Неожиданно она остановилась и приблизилась к поднявшемуся проводить ее Витьке. — Мне было приятно… встретиться с вами, — она сделала упор на последнем слове и продолжила уже более четко и уверенно: — Я бываю здесь… иногда. Даст Бог, свидимся.
Твердым шагом она направилась к выходу, проклиная на ходу себя за то, что пришла сюда, и его — за то, что он подсел к ней. И родителей его — за то, что поселились когда-то в ее доме этажом ниже. И своего отца — за то, что спустя четыре года увез ее в Москву с глубокой душевной раной, так и не зарубцевавшейся за эти годы. Раной, возникшей от тяжелых ударов безжалостной судьбы — потери матери и, следом за ней, любимого безответной любовью Витьки.
3
Алинка села в большой и светлый автобус. Вроде бы тот же «икарус», но почему-то он кажется несколько иным, чем те, которые колесят по Москве. Чистые, не изодранные сиденья из кожзаменителя, высокие тонированные стекла, огнетушитель и молоточки для выбивания стекла в аварийных ситуациях…
Мягкое сиденье нежно приняло ее вдруг разом уставшее тело. Алинка прикрыла глаза. В воображении поплыли неяркие картинки прошлого. Вот она вспомнила ту, самую первую, встречу. Боже мой, как давно это было! Сейчас ей семнадцать, тогда было десять. Всего-то семь с небольшим лет. Семь лет… Надо же, а ей казалось — целая вечность. Тогда еще была жива мама. «Мама… — Алинка улыбнулась. — Мамочка, мамулечка, мамуленька…» Слова эти имеют сладкий привкус дикой клубники.
Лужайка, крупные склоненные до самой земли ягоды. Алинка бегает по утренней росе, загребая сандалетками влагу, и громко смеется, будто колокольчик звенит под бирюзовым пологом неба. Мама собирает первые ягоды в большой, мохнатый снизу и глянцево-бутылочный сверху лист лопуха. Первые щедрые дары лета.
Алинка внезапно останавливается, срывает длинную тонкую травинку и, крадучись, подбирается к маме. Медленно-медленно, тихо-тихо, незаметно, как тень солнечного зайчика. Так ей самой кажется. Она щекочет мамину шею, мама отмахивается, Алинка снова щекочет, заталкивая в себя обрывки смеха, вырывающегося наружу из трепыхающейся грудки, давясь им и едва удерживаясь от этого на ногах. Мама хлопает себя ладонью и весело говорит:

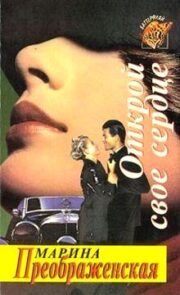
"Открой свое сердце" отзывы
Отзывы читателей о книге "Открой свое сердце". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Открой свое сердце" друзьям в соцсетях.