— Любовь и смерть, — повторил Сергей, но так и не посмотрел в Витькину сторону. — А впрочем, это одно и то же. Или не одно и то же, но в непосредственной близости друг от друга.
— Не понимаю, — Витька удивленно поднял брови. — Объясни.
— А что тут объяснять? Ты ведь сам сказал — страх и страсть. Страх — смерть. Страсть — любовь. Страх — любовь, не так? А страсть — смерть, а? Несвобода. Все мы несвободны. От страха и страсти. От любви и смерти. Мы несвободны, — Сергей сделал упор на последнем слове и замолчал.
— Я свободен, — качнул головой Витька. Серега сел в кресло, откинулся назад и поднес палец к мочке уха. Он резко посмотрел в широко распахнутые безоружные глаза Витьки и хмыкнул.
— Ты свободен? Ты… свободен? Да именно страх и давит тебя. Сминает, грызет. Ты — свободен? От чего? Любовь сжимает твое сердце, страх парализует волю. Любовь влечет, страх ведет. Ты бы хотел идти по одному пути, а давление этих двух сил ведет тебя по другому.
— Философ, тоже мне. — Лицо Витьки стало серьезным. Казалось, он отвечает другу лишь для поддержания разговора, а внутри у него идет страшная, мучительная борьба. И проявления этой борьбы отражаются на скулах бледными пятнами, сдвигают брови к переносице, сжимают кулаки.
Витька встал и молча вышел из комнаты. Он отсутствовал минуты три-четыре. Ни Сергей, ни Нонна за это время не произнесли ни слова. Нонна лежала, прикрыв глаза. Силы медленно возвращались к ней. Ничего, в прежние времена даже специально делали кровопускание, подумала она, и блуждающая улыбка скользнула по ее лицу. Как улыбка сумасшедшего. Ни страха тебе, ни любви. Вообще ничего, сплошные инстинкты почти что на животном уровне. Возомнил себя человек пупом Вселенной. Даже время к себе приспособил. Секунда — удар сердца, минута — шестьдесят ударов. Сутки — оборот его планеты вокруг оси. Год — оборот вокруг солнца. А на самом деле нет ни времени, ни пространства. А значит — ни смерти, ни рождения. Нет ничего. Улыбка сумасшедшего…
Странные люди, смешные. Прав Серега в одном: несвобода — единственная власть. Настоящая власть, цепкая, мощная. Пока человек не поймет, что он несвободен, пока ему кажется, что все, что происходит с ним, — череда случайностей, он будет страдать. Как раб в рабстве, зная о другой жизни, страдает своей физической несвободой. Он бунтует, восстает, бежит. Берет в руки секиру, убивает хозяина, наконец-то становится хозяином сам, и что? Где она, свобода? Иллюзия, самообман… В лучшем случае, человек понимает это и успокаивается, находит иной способ самореализации, в худшем — гибнет. Главное, чтобы не погибнуть — понять.
— Я ушла от мужа, — неожиданно, совершенно без всякой связи со своими размышлениями произнесла Нонна. Сказала она это никому конкретно, так, в пространство. Вроде бы черту подвела. Ну, ушла — и ушла. Кому какое дело.
— Разлюбила? — Так же в воздух бросил Сергей.
— Нет, — ответила Нонна и открыла глаза. Белый свет хлынул в них резкой болью, и Нонна снова опустила веки. — Нет, не разлюбила.
— Он разлюбил?
— А он и не любил… Так паршиво получилось, хреново так. Он не любил… Да и я, собственно, не любила. А как расстались, вроде бы должно легко быть, нелюбимый, чужой, обрыдлый… Странно…
— А что ж раньше вместе жили?
— Не знаю… Жили и жили… Вроде как к деревцу, к яблоньке, например, ветку черешни привили. То бывает болеет деревце, болеет, и ничего, срастается. С одной стороны яблоки, с другой — черешня. У Семенычей в саду такое. А мои на даче попробовали, ничего не вышло. И яблонька погибла, и черешня не привилась. Бывает… — Нонна повернула лицо в сторону Сережиного голоса, но глаз не открыла.
— Бывает, — согласился Сергей. — Ну и не переживай. Многие расходятся… — Сергей поднялся с кресла, приблизился к дивану и наклонился над Нонной. Он поцеловал ее в лоб. Холодный, влажный. На губах остался едва различимый привкус ее кожи. Сердце Сергея сжалось. На секундочку сжалось и кольнуло под ребрами. Он хотел взять ее на руки, вынести в свой «москвичонок» и укатить подальше от этого дерьмового мира. Он даже почувствовал, как напряглись мышцы его рук, как щемяще разбежалось по жилам волнующее тепло. Но вдруг Нонна вздрогнула, и только после этого Сергей услышал, как скрипнула дверь.
— Я чаю принес, — нарочито громко, как будто желая разогнать нависшую над их головами обложную тоску, сказал Витька. Нонна открыла глаза, посмотрела на Витьку, и Сергей заметил, каким теплом осветилась глубина этих темных озерец.
Сергей выпрямился, встряхнул головой и, крепко зажмурив глаза, постоял так пару секунд, не отходя от дивана, на котором лежала девушка. Потом он повернулся к противоположной стене, где висело круглое зеркало в обрамлении искусственных мелколистых и густых традесканций. Ненатуральная зелень живописно оплетала тонкую золоченую оправу.
— Ветка, как богомол… Лист, как крыло бабочки… — Сергей рассматривал отраженную в зеркале картину. «Любит она его», — мелькнуло в сознании Сергея. Любовь, как зарождающаяся жизнь в чреве матери, не может остаться незаметной для наблюдательного пытливого ока. «Любит», — еще раз с сожалением подумал Сергей о тотальной человеческой устремленности к несвободе. Все мы, сами того не понимая, стремимся к несвободе. Кто к какой, но все.
Время лечит. Да, время лечит. Уж теперь-то Нонна это поняла раз и навсегда. Ушел из ее жизни Павлик, исчез, укатил на дальнюю заставу. Зарубцевались порезы на руке. Нонна посмотрит на них и усмехнется. Всего-то месяц понадобился, чтобы вместо гримасы боли при воспоминании о том дне на ее лице появлялась усмешка. Светка в четвертый раз вышла замуж. Бывают же такие люди. Все им в легкую. Кажется, нагрузи рюкзак кирпичей, понесет и не скрючится, еще петь и приплясывать будет.
— Свет, а ты прежнего любила?
— Любила.
— А почему развелись? Или он тебя не любил? — спрашивала Нонна подругу на Сережин манер. Нонне теперь хорошо стало, легко, радостно. Все, что саднило, ушло. Остался Витька. Цветы дарит, духи, французские парфюмы. Вину небось заглаживает.
— И он меня любил, — Светка просто пожимала плечами и курила одну сигарету за другой.
— А почему развелись? — настаивала Нонна, осторожно делая первую в своей жизни затяжку. На столике стояла бутылка белого. «Монастырская изба» — по слогам растягивая звуки, прочитала Нонна надпись на этикетке и посмотрела на раскрасневшуюся от спиртного подругу.
— Так ведь я и говорю — любил. Когда то было? А сейчас любви нет. Нет, и все тут. Что же мне дальше с ним резину жевать? Молодая еще, не нагулялась. — Светка явно произносила не свою фразу, и от этого прозвучала она как-то фальшиво. Нонна закашлялась от едкого дыма, но сигарету не бросила. Нонна не понимала подругу. У нее такие хорошие мужья были. Все трое, да и четвертый — ничего. Но ведь и здесь любовь скоро пройдет. А как не пройти? Светка дома в халатике старом, шлепках. На улице-то, как королева. Губки. Глазки. Ноготочки по последней моде — фиолетовые. Даже волосы в сиреневый цвет выкрасила. А дома… Что и говорить.
— А этого разлюбишь, тоже уйдешь?
— Тоже уйду, — Светка снова пожимала плечиком и смешно вскидывала бровку. — С этим резину жевать? Какая разница! Ни с кем не буду. Я тебе не корова какая-нибудь. Они ведь знаешь как, ухаживать перестают, штамп в паспорт — шлеп, думает, все, повязал. А я ему — кукиш. В рыло. — Светка выкинула вперед кругленький кулачок с высунутым длинным большим пальцем. Фиолетовый ноготок дерзко сверкнул перед лицом Нонны, и та снова поперхнулась едким дымом, закашлялась и ткнула сигаретой в металлическую пепельницу с двугорбым верблюдом на донышке. — Я тебе вот что скажу, подружка милая, не привыкай ты к ним. Привыкнешь — что прирастешь, а отдирать потом — с кожей. С кожей отдерешь, сама голая ходить станешь. А без кожи, знаешь, как больно. Любой притронется — взвоешь. Лучше самой уходить. Пре-ван-тив-ная, — Светка едва выговорила это слово и рассмеялась. Ее пьяные глазки сузились и набухли. Она еще раз набрала в легкие воздуху и напряглась всем телом. — Превантивная мера, ясно?
Нонна где-то слышала это слово. Слышать-то слышала, но что оно обозначает, толком не понимала. Она отрицательно мотанула головой, неясно, мол. А вслух произнесла:
— Ясно, чего уж там. — Слово, может, и непонятное, а по сути все ясно. Уходи, пока не бросил. Вот тебе и вся превантивная мера.
Сережа исчез из ее жизни. Но не так, как Павлик. Павлик — в Передрищенск. Только круги по болоту. Сережа — шариком воздушным. В небо. Взлетел высоко-высоко, даже душа зазвенела. И растаял. Сначала в пятнышко превратился, легкое, светлое. Потом в точечку. Вокруг точечки — голубочек сизокрылый. Потом раз — и нету. А был ведь. Может, Нонне с ним полетать, может, к небу, сначала облачком, потом точечкой. Хорошо небось. Голубочек рядышком вьется, вокруг синь, звень, тучки беленькие, и никаких тебе забот. У Сережи глаза добрые, а главное — на нее смотрят. Ни вины в них, ни боли. Сильный Сережа, привязал бы к себе, и если б сама не взлетела, унес бы. Оторвалась бы от земли и не почувствовала. Где ты, закон тяготения, ау? Но Сережа улетел, остался Витька. Витька красивый, в отличие от Сережи. У того черты лица грубые, как из камня вытесанные незадачливым подмастерьем. А у Витьки — кистью проведены. Тонкой кистью, профессиональной. Каждая черточка на месте, каждый штришок. Глаза фисташковые, губы альмандиновые. Цвет строгий, выверенный. Издали смотришь, тянет, словно к полотну в картинной галерее. Смотришь вблизи, сердце трепещет, страшно становится, хочется подальше отойти. Не на нее глаза, мимо. Боль в них, надрыв. Нонна любит Витьку. А уж какой он ласковый, какой нежный! Как целует ее, как любит! Сильно, мощно, словно прирученный зверь. Нонна закроет глаза, и все ее тело моментально пропитывается им.

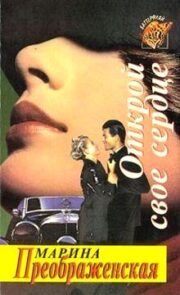
"Открой свое сердце" отзывы
Отзывы читателей о книге "Открой свое сердце". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Открой свое сердце" друзьям в соцсетях.