Обнявшись, мы плакали, каждая о своем. Вэл сказала:
– Я чувствую себя виноватой, потому что я счастлива, в то время как у тебя такое горе.
– Не надо. Мне не будет лучше, если и ты тоже будешь несчастна. – Позднее я призналась Данидэллоу, что это было неправдой. Мне было бы легче, если бы мы вдвоем оказались на процессе, тогда мне не пришлось бы пройти через все это одной. Я ненавидела себя за свои чувства, но понимала, что они далеко не так сильны, как моя искренняя любовь к Вэл, а, признавшись себе в них, я почувствовала облегчение.
В понедельник Атуотер представила еще одного эксперта, который подчеркнул важность принципа ненарушения границ психотерапевтического лечения больных с пограничным состоянием.
При перекрестном допросе Андербрук подверг сомнению утверждение, что я преступила границы психотерапевтического лечения, когда посетила Ника в палате интенсивной терапии.
– Доктор, существует ли какая-то литература, в которой рассматривался бы вопрос о том, должен ли психотерапевт навещать пациента в больнице?
– Нет.
– Поэтому врач должен принимать решение в каждой конкретной ситуации; в тот момент, когда эта ситуация возникает, и учитывая конкретные обстоятельства?
– Да.
Контратака Андербрука продолжалась полчаса, а потом он задал свой последний вопрос:
– Доктор, всегда ли вы знаете, какое количество саморазоблачений пойдет пациенту на пользу?
– В моей работе не всегда можно все точно предсказать. Поэтому-то ее все еще и считают искусством.
Для нас это был хороший ответ, и мы взяли перерыв на десять минут.
Чтобы как-то развеяться, я спустилась по эскалатору на один этаж и села на скамейку перед залом, где рассматривались вопросы семейного права. Мужчина в черном костюме и ботинках из крокодиловой кожи оживленно разговаривал со своим адвокатом. А в нескольких футах от него спорила со своим адвокатом прелестная женщина. На вид ей было лет тридцать пять, и теперь она уже начала увядать, но в юности с такой внешностью она могла бы быть манекенщицей. Казалось, их что-то связывало – женщину, с чудесными светлыми волосами и поджатыми губами, и мужчину, надменного и начинавшего полнеть. Я поняла, что они разводятся и спорят по поводу раздела их дома. Пять минут я наблюдала за ними, представляя себе начало их романа. Какой хорошенькой, наверное, казалась ему она, с ее огромными, как у куклы глазами; каким перспективным считала она его, с открывающейся перед ним блестящей карьерой. И вся любовь свелась в конечном итоге к разочарованию и спорам по поводу ламп, шкафчиков и часов. Я надеялась, что ничего подобного не произойдет с Вэл и Гордоном. Мне стало нестерпимо больно, когда я подумала о том расстоянии, которое пролегло между мной и Умберто.
Когда я вернулась в зал суда, большинство репортеров еще отсутствовало, они посылали факсы или разговаривали по радиотелефонам. Зрители оставались на своих местах, чтобы их никто другой не занял. Две молодые женщины в кожаных куртках и с кольцами в носу держали в руках плакат с надписью: «Мы любим Ника». Там же находилось несколько юных юристок, свеженькие, хорошо одетые, они постоянно делали какие-то записи. Женщина средних лет с короткими светлыми волосами тоже писала в своем блокноте.
Пришли присяжные, они грызли орешки и картофельные чипсы, купленные в буфете. Странно, что моя судьба была в руках совершенно незнакомых мне людей, которые, как мне казалось, относились к этому совершенно безразлично. Они напоминали зрителей, которые ожидают, когда же начнется фильм.
Атуотер вызвала очередного свидетеля, это был Билли Чекерз, старый – еще со студенческих времен – друг Ника, с которым они иногда вместе выпивали.
На Билли был свободного покроя зеленовато-голубой костюм и розовая рубашка, застегнутая под горло, без галстука. Его темные волосы были длинными сзади, но коротко подстрижены на висках.
Описывая перемены, замеченные им в Нике в период психотерапевтического лечения, он отметил, что Ник стал мрачным и угрюмым и не хотел больше участвовать ни в каких пирушках. Тяжелее всего было слушать, как он описывал вечер, проведенный им с Ником несколько месяцев тому назад, незадолго до того, как Ник попытался покончить с собой. Они праздновали помолвку Билли.
– Выпив четыре или пять стаканчиков, Ник, рыдая, сообщил, что влюбился в своего психотерапевта, и это его просто убивает.
Я смутно вспомнила, что мне рассказывал Ник про тот вечер. Я слушала подробности тех событий, и меня просто мутило. Присяжные заседатели с интересом слушали Билли, ведь он, в отличие от экспертов, не бубнил, как пономарь.
– Таким я его никогда не видел. В глазах его были слезы. Это было нечто! Он сказал, что если бы мог, то был бы с ней двадцать четыре на семь.
Леона Хейл Атуотер попросила позволения приблизиться к свидетелю и потом медленно подошла к Билли. Она спросила мягким голосом:
– Не могли бы вы сказать, что означает двадцать четыре на семь?
– Да вы знаете, – решительно заявил Билли, – это означает двадцать четыре часа в день, семь дней в неделю.
Атуотер вернулась на свое место, и зал на мгновение замер, все пытались осознать, насколько глубоко Ник был мной увлечен. У меня закружилась голова, и я заставила себя дышать медленно.
В среду они вызвали в качестве свидетеля Абнера Ван Хендла. Я была возмущена поведением Абнера, потому что он не дал мне увидеться с Ником сразу после его попытки самоубийства. Мне кажется, поговори я тогда с Ником, всей этой катастрофы можно было бы избежать.
Ван Хендл был сильным свидетелем.
– Мистер Арнхольт плакал из-за доктора Ринсли как ребенок. Он настойчиво твердил об их сексуальных отношениях, и у меня нет ни малейшего повода не доверять его словам. Ни в палате интенсивной терапии, ни впоследствии у него не наблюдалось никаких признаков искаженного восприятия действительности.
Услышав эти показания, я почувствовала, что положение мое безнадежно. Я до сих по видела, как Ник рыдает на моем диване, как он умоляет меня. Он всегда был очень убедителен, и совершенно понятно, что Абнер в него поверил.
Атуотер заставила Ван Хендла описать предпринятую Ником попытку самоубийства, причем так, что стало ясно, насколько близко тот был к смерти. Андербрук со своей стороны поставил вопрос так, что важность этого утверждения была поколеблена. Он продемонстрировал, что между приемом таблеток и вызовом службы спасения 911 прошло очень мало времени.
Андербрук отыграл несколько очков, но это было далеко не все, ведь попытка самоубийства – это попытка самоубийства, и обвинение в некомпетентности все еще не было снято с меня.
В конце дня появился мой бывший сосед, мистер Сливики. Одет он был очень старомодно, в серый синтетический костюм и черные туфли, но на его розоватом пальце действительно было женское обручальное кольцо.
Он сказал, что помнит о посещении Ника. По его наблюдениям, машина Ника простояла на дорожке возле моего дома около часа. Мистер Сливики выглядел очень нервозным, голос его дрожал, когда он говорил, и поэтому казалось, что он что-то пытается утаить.
Андербрук спросил:
– Вы когда-нибудь видели машину мистера Арнхольта перед домом доктора Ринсли до или после той единственной ночи?
– Нет. Но я видел, как та же самая машина четыре или пять раз проезжала мимо.
Я с надеждой подумала, что это, быть может, позволит пожилым женщинам из состава присяжных понять тот страх, который мне внушало это кружение вокруг моего дома.
Прежде чем уйти, мистер Сливики выпалил, обращаясь к присяжным:
– Доктор Ринсли – хороший человек.
Но Атуотер изъяла эти слова из протокола.
Я чувствовала себя настолько подавленной в тот день, что, вернувшись в контору Андербрука, позвонила Умберто и спросила:
– Можно к тебе зайти сегодня вечером?
Мне казалось, что, если проведу с ним несколько часов, я сумею пережить остаток недели. После небольшой паузы он ответил:
– Да, конечно. У меня есть планы, но я все отменю. Следовало ли ему говорить мне о своих планах?
Я бы никогда не позвонила, если бы знала. Но теперь уже слишком поздно. Я уже унизилась. Дома я переоделась в джинсы и спортивный свитер и, прежде чем уйти, пообедала с мамой.
Она пожарила цыпленка, и я заставила себя съесть немного, чтобы не дать ей почувствовать, что труды ее были напрасны. Я извинилась, что оставляю ее дома одну, а сама ухожу к Умберто. Но эта новость ее обрадовала, и она не возражала.
Когда я вошла в дом Умберто, Франк стал лаять, скулить и подпрыгивать от восторга. Я наклонилась к нему и позволила ему облизать меня и обнюхать. Умберто смеялся, глядя на нас, но потом стал каким-то скованным, запинаясь, рассказал, как много работы было в ресторане.
– Извини, – сказала я. – Надеюсь, это не доставит тебе слишком много неудобств.
– Конечно, нет! Я просто… просто… – Он взмахнул руками, а потом опустил их. – Просто я не знаю, что тебе сказать. Я не знаю, о чем можно с тобой говорить.
– Ни о чем, давай не будем разговаривать.
Он приподнял брови, по-видимому, решив, что мне нужен секс.
– Я имею в виду, что мы просто посидим у огня, держась за руки, и не будем говорить ни о чем. Можешь ты сделать это? – На лице его я прочитала облегчение.
– Конечно.
Я смотрела, как он разжигает огонь, и вспоминала ту ночь, на острове, когда мы разбили наши стаканы. Как бы мне хотелось повернуть время вспять! Вернуть ту легкость и непринужденность, когда мы сидели, прижавшись друг к другу, Умберто пел, и мы были переполнены надеждой и оптимизмом. Но все это было до краха, задолго до него. Слова эти постоянно вертелись у меня в голове.
Мы сидели перед камином целый час. Умберто держал меня за руку и медленно ее поглаживал. Довольный Франк спал у моих ног, а я ни о чем не думала, и мне стало легче.
Перед уходом я зашла в ванную для гостей и обнаружила там открытый пакет тампонов. Интересно, как ее зовут, подумала я и практически выбежала за дверь, чтобы Умберто не смог разглядеть моего лица.

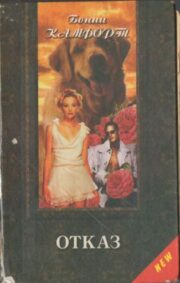
"Отказ" отзывы
Отзывы читателей о книге "Отказ". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Отказ" друзьям в соцсетях.