Ну а теперь, когда я дошла до этого, что еще я не договариваю? К чему все эти увертки?
В одном я была уверена: мне необходим курс психотерапии. Крайне необходим. Вся моя жизнь, основанная, как я считала, на глубоком знании себя, оказалась притворством.
Почувствовав облегчение после того, как смогла себе в этом признаться, я постепенно пришла в себя. Когда я шла к машине, я снова увидела фигуру, укутанную в одеяло, направлявшуюся ко мне. Я пошла прямо через песок к стоянке. Я ускорила шаги, оглянулась и увидела, что человек тоже прибавил шагу, чтобы догнать меня. Я бросилась бежать и только успела залезть в машину, как он постучал в окно. Вся дрожа, я завела машину и дала задний ход. Человек стоял в свете фар с грязной вытянутой рукой. На лицо свисали пряди волос. На нем было три пальто. Из кошелька под сиденьем я выхватила пятидолларовую бумажку и выбросила ее из окна перед тем, как уехать. Он бросился за ней.
Когда я вернулась, в доме было тихо. Франк встретил меня на пороге жалобным воем, и я поняла, что он остался без обеда. Я наполнила его миску, вынула полупустую бутылку шабли из холодильника и уселась в темноте на диване.
Мама вышла ко мне в ночной рубашке.
– С тобой все в порядке? – спросила она мягко. Я включила свет в гостиной и кивнула.
– Хочешь, посидим и поговорим? Я только сначала надену халат.
Вернувшись, она уселась на стул передо мной.
Я смотрела ей в лицо, стараясь запомнить каждую его черточку, чтобы однажды перед сном вспомнить в мельчайших подробностях эти добрые глаза, изгиб рта, родинку над левой бровью.
– Прости меня, я виновата, – я глотнула прямо из бутылки.
– Я тоже виновата.
– Мам, я действительно боюсь. Всего боюсь. Но больше всего я боюсь того, что может выясниться на суде.
– Родная, ты спала с этим человеком? – Глаза у нее были темными и серьезными.
– На Библии могу поклясться, что нет.
– Тогда что же может выясниться?
– Что я довела его до самоубийства.
– А ты в этом виновата?
– Возможно. Отчасти. – Я поднесла ко рту сжатый кулак.
Она внимательно рассматривала свои ногти.
– Я ничего не понимаю в твоей профессии, но думаю, тебе следует разобраться, почему ты так поступала.
Я кивнула и расплакалась.
– Я собираюсь повторить курс терапии.
Мама пересела ко мне на диван и взяла мою руку.
– Я знаю одно. Ты сама отнесешься к себе строже, чем любой судья или присяжные. Когда ты преодолеешь тот суд, который ты устроила себе сама, ты сможешь пройти и через любой другой суд.
Я смогла улыбнуться сквозь слезы, поднесла ее руку к губам и легко поцеловала.
– Возможно, ты и права. Когда ты стала такой мудрой?
– Я прошла через несколько таких судов и признала себя виновной.
52
День переезда был настолько беспокойным, что он показался мне не таким ужасным, как представлялся раньше. Вэл и Гордон наняли большой фургон, и мы втроем поднимали тяжелые вещи, мама складывала мелкие коробки. После того, как они уехали на новую квартиру, я осталась в последний раз одна в моем пустом доме.
Представшая перед моими глазами картина потрясла меня – мой чудесный дом, основа моей независимости – был для меня безвозвратно утерян.
Я прошлась по пустынным комнатам. Я дотрагивалась до стен, заметила пятно, которое следовало закрасить, отклеившуюся плитку. Взглянув из кухонного окна на задний двор, я вспомнила вечеринку, на которой Франк переел. В столовой я представила Ника, стоявшего у окна и придерживавшего штору. Когда я вошла в спальню, то снова ощутила боль, вспомнив первую ночь с Умберто. Я опустилась на пол и провела рукой по нарисованному цветочному орнаменту, который мне так нравился.
– Прощай, – сказала я.
Дом был моим настоящим возлюбленным – таким, которому я доверяла, о котором заботилась и на которого рассчитывала. Вернувшись в столовую, я легла лицом вниз, раскинув руки, на деревянный пол, как будто могла обнять его. Мои слезы оставляли маленькие белые пятнышки на натертой поверхности.
Наконец я нашла силы подняться и уйти. Когда я стояла на крыльце и в последний раз запирала дверь, меня заметил мистер Сливики и подошел. По совету Андербрука я ничего не сказала ему о суде.
– Вы не могли бы хоть изредка приглядывать за розами? – спросила я. – Я прошу.
– Конечно, конечно. Жаль, что вы уезжаете, – сказал он хрипло. – Вы были хорошей соседкой. И честной. Заходите, в любое время заходите.
Я пожала ему руку и направилась к машине.
– Доктор… Я обернулась.
– Ваше дело – даже если вы его не выиграете, вы уже сейчас победитель.
– Спасибо, – грустно улыбнулась я.
Квартира после моего уютного маленького домика меня просто шокировала. Я продала большую часть мебели, у меня остались только диван-кровать, стол со стульями, столик для кофе, кровать и тренажер. Мое новое жилище было настолько маленьким, что даже эти несколько вещей загромоздили его.
Вечером, после того как мама ушла спать в мою спальню, я прилегла на диван, но заснуть не могла, подавленно глядя на тени на потолке. В моей квартирке было темно, бедно и шумно. Громкая музыка, доносившаяся снизу, казалось, сотрясала пол. Сквозь щели в дверях и окнах просачивались голоса. Я как будто бы вновь попала в колледж, только теперь я не испытывала от этого радости, мне было не девятнадцать лет, а бедность больше не представляла ничего романтического.
Утром, когда мама собралась уезжать, я поблагодарила ее за помощь и сказала, что буду без нее очень скучать.
– Мне здесь и принимать-то никого не хочется, – сказала я.
– Тем, кто тебя любит, все равно, где ты живешь. – Мама крепко обняла меня.
Я совсем не ощущала, что меня кто-то любит. Этой ночью, когда я в первый раз осталась одна в свой квартире, я плакала в подушку, чтобы не услышали мои новые соседи.
В качестве терапевта я выбрала доктора Берил Даниделлоу, психоаналитика, которая заведовала клиникой в Центре изучения депрессий. Это была простая женщина немного за пятьдесят, которая не красилась, носила туфли на низком каблуке и темные костюмы, скрывающие ее полноту. Я встречалась с ней на конференции, прочла обе ее книги и слышала о ней от коллег только хорошие отзывы. Я знала, что она курит сигары, и, как болтали злые языки, грызла зубами грецкие орехи, но она была исключительно здравомыслящим психоаналитиком, а мне именно это и требовалось.
Когда я впервые пришла к ней, она провела меня через весь Центр в свой кабинет. Он был заставлен мебелью – стол, кушетка, три удобных стула – и завален книгами, рукописями, журналами, небольшими фигурками – образцами примитивного южно-американского искусства. Она сказала, что курит только тогда, когда бывает одна в кабинете, но комната пропахла мужским запахом сигар.
Говорить с ней было легко. Я говорила не останавливаясь почти сорок минут, выплескивая долго сдерживаемую муку. Наконец я добралась до сути.
– Мне необходимо понять, что же произошло. Что меня так притягивало к нему, и почему позже я задыхалась в его присутствии.
Данидэллоу сказала, что для того, чтобы найти ответы на эти вопросы, потребуется время.
– Мне кажется, что у меня все плохо, – разрыдалась я.
Она посмотрела на меня задумчиво, мои слезы ее не испугали.
– Кажется, вы оцениваете себя исключительно по своим достижениям.
– Вы абсолютно правы, – опять разрыдалась я. – Начала я с того, что из кожи вон лезла, чтобы угодить отцу, а потом не могла остановиться.
– Почему бы нам не попытаться выяснить, что лежит в основе всего этого?
Все еще продолжая плакать, я кивнула. Я была в руках превосходного клинициста, и теперь, когда я оказалась без защиты, я была готова, как когда-то в юности, задаваться вопросами о самой себе.
– Увидимся в среду в семь, – сказала она, и меня успокоил привычный ритм терапевтических сеансов, хотя теперь я была пациентом.
После этого мы встречались три раза в неделю, и, лежа на кушетке, я постепенно стала ощущать себя в безопасности. Плата была выше того, что я могла себе позволить, но я экономила на всем остальном, потому что именно это было сейчас для меня самым необходимым.
Я знала, как должен себя вести хороший пациент. Я проводила анализ своих снов, проверку на свободные ассоциации, я даже пыталась понять свои чувства по отношению к ней – зависть к ее положению, мое стремление иметь добрую и сильную мать, которой у меня никогда не было.
Какую-то часть каждого сеанса я рассказывала об Умберто, потому что я по-прежнему чувствовала себя одинокой, но не могла ни позвонить ему, ни ответить на его попытки примирения.
– Вы боялись, что если будете слишком близки с Умберто, то потеряете свое «я», – сказала она на одном из сеансов.
– Но так было не только с ним. Я уходила от всех мужчин, с которыми когда-либо была связана.
– Да. Даже со мной вы боитесь сблизиться, чтобы не потерять своего «я».
После этого сеанса я позвонила Умберто. Наш разговор плохо клеился.
– Мне жаль, что тебе приходится проходить через все это, – начал он.
– Думаю, что и для тебя этот год был не из легких. На том конце провода долго молчали, прежде чем я услышала:
– Да.
– А моей маме ты понравился.
– Она понимает тебя лучше, чем ты сама.
– Я так не думаю, – вспылила я.
Он перешел на более безопасные темы, и нам даже удалось возродить что-то, что, казалось, исчезло в последние семь месяцев.
Наконец он предложил пообедать вместе.
– Ты согласен на ленч? – спросила я. Ограниченная по времени встреча днем казалась мне наиболее подходящей.
– Конечно. Сивью в Малибу?
– Прекрасно.
Я не знала, как все пройдет, что я буду при этом чувствовать, но я слишком скучала без него, чтобы упустить этот шанс.

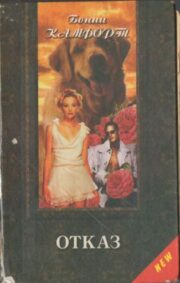
"Отказ" отзывы
Отзывы читателей о книге "Отказ". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Отказ" друзьям в соцсетях.