Старая боль вновь поселилась в моей груди и давила на меня, как железо. Может быть, все мои труды ни к чему не приведут. Может быть, на всю свою жизнь я останусь одинокой. Может быть, я наконец-то столкнусь с чем-то, чего преодолеть не смогу.
Но отец абсолютно прав. По крайней мере, я должна попытаться.
44
По мере приближения дня, когда Ник должен был давать показания, возбуждение мое нарастало. Произойти это должно было в кабинете Атуотер в присутствии судебного репортера и всех поверенных. Я страшно не хотела идти, но Андербрук сказал, что так будет лучше. Он сказал, что Нику будет трудно лгать, глядя мне в лицо.
Каждый день я занималась бегом, чтобы не потерять форму, но в результате только еще больше похудела. Дома мне приходилось носить теплые тренировочные брюки и свободные свитера, чтобы Умберто не бросалась в глаза моя худоба.
Умберто больше не приглашал меня на обеды и вечеринки. Он просто не включал меня в свои планы, но сообщал мне, когда его ждать дома. Под предлогом того, чтобы не беспокоить меня, он иногда спал в комнате для гостей. Меня это не трогало, наверное потому, что я будила его своими стонами и разговорами во сне.
В то утро мы встретились с Андербруком в семь тридцать и отправились в офис Атуотер на Беверли-хилз. Я надела тот же костюм от Армани с белой блузкой, черные туфли-лодочки на невысоком каблучке и небольшие жемчужные серьги. Я потратила пропасть времени на то, чтобы скрыть под макияжем сыпь на лице.
Я с ужасом думала о том, что увижу Ника. Я боялась, что разрыдаюсь или упаду в обморок или сделаю еще какую-нибудь страшную глупость, поэтому я сказала Андербруку, что выйду, если почувствую, что теряю над собой контроль.
В приемной офиса Атуотер стоял большой стол, покрытый тонким серым пластиком. В углу его стояла скульптура богини Правосудия в полный рост.
Сотрудники Атуотер проводили нас в большой конференц-зал, где нас ждал кофе, булочки и мягкие кресла. Она пришла несколько раньше времени, чтобы познакомиться со мной, и у них с Андербруком осталось несколько свободных минут, чтобы обменяться шуточками и посмеяться. «Старые друзья, – подумала я. – Какое им дело, что вся моя жизнь висит на волоске? Для них это ежедневная работа».
Мы уселись с одной стороны длинного стола, где напротив каждого сидящего стоял стакан с водой на белой салфетке. Когда мы расположились и готовы были начать, Атуотер вышла из комнаты и вернулась с Ником.
Все мои попытки обуздать свои чувства при виде его пошли прахом. Я вся дрожала. Локти зудели. Я так сильно сжала зубы, что у меня заболели челюсти. Когда он входил в комнату, я оцепенела и уставилась на него, надеясь, что один только мой вид так подействует на него, что он объявит, что все это ужасная ошибка, и будет умолять меня о прощении.
Наши взгляды на мгновение встретились, но его лицо, кроме мимолетного узнавания, не выразило ничего. Он сбросил по крайней мере десять фунтов и выглядел скованным и неуверенным в своем костюме в полоску и накрахмаленной рубашке.
Поднялась некоторая суматоха, когда выяснилось, что единственное свободное место для Ника было как раз напротив меня. Ник посмотрел на меня и сказал:
– Я вполне могу сесть прямо перед ней. Теперь она не может нанести мне вред.
Я была в такой ярости, что на какое-то время потеряла способность различать цвета, и в левом ухе у меня зазвенело. Я уронила ручку, чтобы наклониться за ней и не потерять сознание.
Быстро вмешался Андербрук.
– Давайте проведем все дружелюбно и по-деловому, мистер Арнхольт.
Ник кивнул и после этого вел себя более осмотрительно.
В своих вопросах Андербрук начал издалека, для начала придерживаясь нейтральных тем – почему Ник выбрал именно меня своим доктором, почему он вообще решил, что ему нужна терапия, как шли дела в самом начале.
Мучительное ощущение пронзило меня, когда я слушала Ника, описывающего свою жизнь: учеба, сменяющая одна другую женщины, честолюбивые планы, гордость тем, чего удалось достичь. В нас было гораздо больше общего, чем я когда-либо предполагала. Ведь он говорил об этом, а я все отрицала. Почему же я этого раньше не увидела?
Во время перерыва Андербрук вытащил меня в коридор и провел в дальний конец здания.
– О Господи! – с жаром зашептал он. – Почему же вы мне раньше не сказали, что он так красив?
– Но я же говорила, что у него необыкновенные глаза, – запаниковала я. – А чем вы так встревожены?
– Господи! Уж слишком он хорош, вот и все. Простите, доктор. С вами все в порядке? Вам дать воды?
Я засунула руки поглубже в карманы.
– Нет. Просто объясните, как все идет, и почему у вас такая реакция на его внешность?
– Я объясню позже. Пока еще рано говорить о том, как все идет. Я пока еще только забрасываю удочки.
– А сколько, по вашему мнению, это займет времени?
– Весь сегодняшний день, а может быть, и завтра. Я позвонила на службу, и мне передали, что ко мне обратились два новых пациента. Меня это особенно обрадовало не только потому, что я находилась в такой тяжелой ситуации, – деньги для меня теперь тоже были проблемой.
Страховая компания уже представила пояснительный иск о снятии с себя обязательств, в котором говорилось, что если меня признают виновной, то они выплатят судебных издержек не более двадцати пяти тысяч долларов. Судя по тому, как оплачивались присяжные в наши дни, эта сумма для меня будет каплей в море.
Когда мы возобновили работу, Андербрук прошелся с Ником по всем подробностям его детства. Идея его заключалась в том, чтобы найти какие-либо несоответствия между тем, что Ник говорил теперь, и моими записями, которые были сделаны на основании более ранних рассказов Ника.
Ник отвечал спокойно, прекрасно зная, что говорить следует только то, о чем спрашивают. Хотя он и не скрывал подробности своей жизни, но он принижал их важность. Отец его был «строгим», но не подлым, мачеха «иногда переступала черту», но все в границах приличия.
Ник все время смотрел на Андербрука, а не на меня. Говорил он ясно, убедительно и последовательно. Возможно, мои записи во время сеансов и могли доказать, что он противоречит себе, но слишком уж они были разбросаны, так что, кроме моих слов, противопоставить было нечего. Я вспомнила о Кенди; где-то она теперь была и что бы сказала, если бы мы могли ее найти?
На второй день Андербрук допрашивал Ника с пристрастием относительно его сексуальных претензий ко мне. Когда я наблюдала за лицом Ника во время его рассказа, меня не покидала мысль, что я смотрю в лицо психопата. С этим человеком никто бы не сравнился в умении лгать!
– А что произошло после того, как она села и взяла вас за руку?
– Она отвела меня в спальню и уложила на кровать. Потом выдвинула ящик тумбочки и достала презерватив. Я натянул его, и она оседлала меня.
– А когда именно вы оба разделись?
– После того, как мы вошли в спальню, я разделся полностью, а она сняла только джинсы и трусики. Лифчик она не снимала.
– А что было потом?
– Она… не отпускала меня до тех пор, пока не кончила. Когда она скатилась с меня, я еще мог продолжать, так что я попросил ее довести меня до оргазма рукой.
– А что с презервативом?
– Я его снял, завернул в салфетку и выбросил в корзинку для бумаг возле кровати. Потом мы оделись и вернулись в столовую.
Я могла только смотреть ему в лицо и качать головой.
– После этого я себя действительно плохо почувствовал, меня охватило какое-то замешательство и предчувствие дурного. Я не знал, почему она меня не остановила, и что она будет делать дальше. Мы сели за стол и выпили чаю. В тот момент к двери и подошел Сливики.
– А Сливики вас тогда увидел?
– Нет. Я сидел за столом, и меня не было видно из коридора. Я слышал, как она сказала ему, что все в порядке, а потом захлопнула дверь. Я встал из-за стола, чтобы посмотреть на него из окна.
– А зачем вы это сделали?
– Мне было любопытно, кто это был.
– Так что вы смогли бы узнать его?
– Нет. Просто я всегда хотел знать все о докторе Ринсли. Даже то, кто из соседей ей нравился.
– Но вы же следили за ним, пока он не вошел в свой двор?
– Это же было прямо через улицу, так что я волей-неволей видел, куда он направляется. Я понял главное – она просила его прийти и посмотреть, все ли в порядке. После этого я почувствовал себя мелкой дешевкой, как будто бы она боялась меня.
– А она вам когда-нибудь говорила, что боится вас?
– Нет. Но я спросил ее, зачем ей была нужна эта проверка, и она ответила, что не знала, что может произойти.
– И как же вы это поняли?
– Она боялась, что я причиню ей вред. А это оскорбило меня.
– А что произошло потом?
– Мы еще посидели за столом некоторое время и поговорили. Когда я признался, как отвратительно себя чувствую, она сказала, что больше не может меня лечить и порекомендует меня кому-нибудь другому. После этого я уже не видел никакого смысла в жизни. Я чувствовал, что мною попользовались и выбросили.
Это было только начало. Как Андербрук к нему ни подступался, на каждый его вопрос у Ника был готов ответ. На вопросы, связанные с более детальной информацией относительно спальни, моего тела или особенностей происшедшего, он отвечал, что не помнит, или же, что не заметил этого, поскольку все произошло очень быстро, а он был сильно расстроен.
За свою игру он мог бы получить премию Оскара: в ней было как раз столько гнева и отчаяния, чтобы она звучала правдоподобно. Действительно, рассказ Ника был такой мешаниной из правды и вымысла, что не оставалось ничего другого, как признать, что он вовсе не психопат и не лгун, а просто вообразил себе все это, и сам поверил… Может быть, у него на самом деле были галлюцинации.
Атуотер возражала каждый раз, когда Андербрук мог уличить Ника во лжи. Если так дело пойдет и в суде, я обречена. Найдется ли человек, который сможет не поверить Нику?

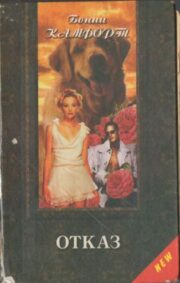
"Отказ" отзывы
Отзывы читателей о книге "Отказ". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Отказ" друзьям в соцсетях.