Еще Уильям сказал, что время от времени он развлекался тем, что воображал себя красивой женщиной. На мой вопрос, что он нашел в этом занятии привлекательного, он ответил:
– На самом деле мне не хочется быть женщиной. Просто меня прельщает свойственное ей привилегированное положение. Красивые женщины находятся в своего рода защитном панцире.
– А от чего вам защищаться при помощи такого панциря?
– От ответственности, от риска и от непризнанности. Эти три вещи просто отвратительны.
– Но вам ведь удается выжить, несмотря на то, что вы постоянно сталкиваетесь с этими отвратительными вещами.
Он медленно покачал головой: – Да, это так.
Меня порадовал прогресс, достигнутый им.
Большинство других пациентов перенесли мое отсутствие вполне сносно. Сестры Ромей посвятили Рождество хождению по магазинам. Они делали это для нескольких пожилых женщин, прикованных к дому… Сестрам это так понравилось, что они решили продолжать эту деятельность. Еще одна пациентка, которая завершила курс лечения в октябре, прислала мне поздравительную открытку, в которой сообщила, что у нее все в порядке. Даже мои учащиеся чувствовали себя более уверенно, и мне было приятно сознавать, сколь многому они успели научиться.
Расслабившись на отдыхе, я прямо-таки задыхалась, окунувшись в работу. Диктовки, счета, отчеты. Нужно было готовиться к лекциям. На радио делалась новая передача, и я, наконец, начала переговоры с издателем по поводу книги о расстройствах на почве питания.
Фанатично обожая свою работу, я была вынуждена отказываться от многих ужинов и вечеринок с Умберто, чтобы не терять профессиональной формы, и мне казалось, что я разрываюсь: ведь я любила его и жаждала быть с ним.
Как-то вечером он вернулся домой, поужинав в одиночестве, и увидел, что я занимаюсь на велоэргометре.
– Вот, оказывается, чем ты занимаешься вместо того, чтобы ужинать со мной, – сказал он раздраженно.
– Я диктовала весь вечер. Мне необходимо было проветрить мозги.
– У тебя будет артрит. И может прекратиться овуляция. Истощение у женщин приводит именно к этому.
Я увеличила звук плеера и еще быстрее заработала педалями. Наверное, ему никогда не понять, как я дорожу своей работой, и сколько она мне приносит удовлетворения.
27
Меня радовало, что Ник делится со мной своими воспоминаниями, но воспоминания эти были настолько тяжелы, и чем больше он мне рассказывал, тем агрессивнее становился. Он расхаживал по кабинету с красным от злости лицом и почти кричал, а я видела, что он не только очень зол, но и очень беззащитен. Его гнев скрывал отчаяние.
Он не переставая говорил, каким ублюдком был его отец, каким он был бесчувственным и жалким. Когда он пьяный являлся домой, Кенди была обязана его ждать, а если он оказывался дома раньше ее, он лупил ее, едва она появлялась на пороге. Однажды Ник бросился их разнимать. Отец отшвырнул его с такой силой, что Ник пролетел через всю кухню и сломал себе руку. Судя по всему, отец Ника был жестоким, эгоцентричным и инфантильным человеком, нуждающимся в постоянном самоутверждении, и чем больше Ник думал о нем, тем сильнее распалялся.
– Если бы отец был жив, я бы прикончил его, – говорил он.
Однажды, когда Кенди не было дома, отец запер Ника в чулане за то, что тот написал в постель. Вернувшись домой и открыв дверь чулана, Кенди нашла Ника голым, тяжело дышащим, с закрытыми глазами. Они с воображаемым другом ехали на верблюде по пустыне, как в его любимой детской книжке. Ник задыхался от жары и поэтому снял с себя всю одежду, представляя себе, что находится под палящими лучами солнца и обнимает за шею своего друга.
– Так вот чем ты занимаешься в чулане! – сказала Кенди.
– Тут жарко, – ответил Ник тоненьким голосом. Она опустилась перед ним на колени и, обдав его запахом виски, провела руками по его груди. Он был так напуган, что описался.
– Не бойся, – сказала она.
– Сколько вам было тогда лет? – спросила я.
– Около семи.
– У вас был с ней какой-нибудь сексуальный контакт?
Он не сразу нашелся, что ответить.
– Я уверен, что мое увлечение горячими ваннами идет от нее. По вечерам она любила подолгу сидеть в ванне. Сначала мне казалось, что она там плачет, что ей плохо. Я подходил к двери и спрашивал, все ли с ней в порядке. Она отвечала, что с ней все хорошо и говорила, чтобы я шел поиграть. Позже я стал подсматривать в замочную скважину.
Он покачал головой и закатил глаза к потолку, а я представила, как эта черноволосая сирена ласкает себя, сидя в горячей воде.
– Когда отец не являлся ночевать, она приканчивала бутылку и укладывала меня вместе с собой. Когда она ушла, я ее возненавидел. Она не ушла бы, если бы действительно любила меня.
– А может быть, у нее были на это веские причины? Ты слышал когда-нибудь, что она думает по этому поводу?
– Нет. Когда она попыталась наладить со мной отношения, было уже поздно. Я не хотел иметь с ней ничего общего. Я даже не знаю, жива ли она. Меня это не интересует.
Он отвернулся от меня и улегся на кушетку.
– У нее были большие мягкие сиськи. Меня до сих пор больше всего возбуждает, когда я утыкаюсь лицом в сиськи какой-нибудь шлюшки. Иногда, когда я остаюсь один, я кладу на лицо подушку.
До конца сеанса он пролежал, свернувшись калачиком.
– Хотя кое-что она для меня сделала. Она научила меня удовлетворять женщину.
Я вздрогнула от неожиданности.
На следующем сеансе Ник спросил, веду ли я записи наших бесед. На мой утвердительный ответ он сказал:
– Это отвратительно: записывать такие личные откровения.
Я поняла, почему он так считает, когда вспомнила о его компьютерных исследованиях.
– Я постараюсь свести записи к необходимому минимуму.
– Конечно, – ответил Ник и продолжал копаться в горьких воспоминаниях своего детства.
Все проблемы, с которыми в детстве сталкивалась я, казались цветочками в сравнении с тем, что выпало на долю Ника. Тем вечером, в пятницу, мы с Умберто приехали в Бендон поздно. Все три часа, что мы добирались туда из аэропорта Медфорда, я рассказывала ему о своем прошлом. Вот покрытая льдом река Рог, где мы с отцом любили ловить рыбу. Вот железная дорога, где мы с мамой угодили под поезд. Вот моя школа. Вот игровая площадка, где отец бросал мне мячик, пока у меня не закружилась голова.
Я словно наяву увидела свои детские ладошки, натертые докрасна бейсбольной битой.
– По меркам моего отца, – сказала я, – я была никчемным созданием – чуть что, сразу начинала плакать, плохо играла в бейсбол и боялась темноты.
– Но зато он теперь тобой гордится.
– Не знаю. Возможно.
В сравнении с отцом, который бьет тебя и запирает в чулане, это была ерунда.
И все же меня удручало, что мой отец оценил меня, только когда я поступила в аспирантуру. Все, включая его самого, считали, что он не справился с программой средней школы из-за собственной тупости, и именно поэтому для него был настолько важен бейсбол. Начав изучать познавательные функции, я неожиданно заподозрила, что у него что-то не в порядке с чтением, и на весенние каникулы привезла домой тесты, чтобы оценить его способности.
Его ответы подтвердили мой диагноз. Он краснел от того, что спотыкался на тестах по чтению и правописанию, предназначенных для учеников пятого класса. Зато когда я стала читать ему слова вслух, оказалось, что его лексикон соответствует уровню студента колледжа.
В Национальной федерации слепых мы приобрели ему библиотечную карточку, и тогда ему неожиданно открылся новый мир. Всю неделю он слушал сокращенный вариант дарвиновского «Происхождения видов», «Речи выдающихся американских политиков» и «Короткую остановку» Зейна Грея.
Вечером, накануне моего возвращения на факультет, он пришел ко мне в комнату и уселся в маленькое кресло, которое до сих пор стоит возле моего старого письменного стола. Золотистые волосы на его руках блестели при свете моей обшарпанной настольной лампы. На его футболке виднелись пятна от соуса.
– Сара… – начал было он, но не смог закончить. Он опустил голову, в его рыжих волосах пробивалась седина. Он молча уткнулся лицом в ладони, чтобы скрыть слезы. Единственный раз, когда я еще видела его плачущим, это в больнице, в ожидании вестей о состоянии матери.
– Спасибо, – наконец выговорил он. И только.
Когда мы подъезжали к маленькому, ухоженному дому моих родителей, я изрядно волновалась. Я понимала, что на них произведет впечатление бизнес Умберто и его привязанность ко мне, но не знала, насколько ловко они будут себя чувствовать в его присутствии. Я и сама-то давно их не видела.
Мама вымыла пол в кухне, отполировала дубовый обеденный стол и купила для нас новые простыни и полотенца. Отец был сам на себя не похож в начищенных кожаных ботинках. Его буйные кудри были зачесаны назад, а рукопожатие казалось чересчур крепким.
Во время приготовлений к чаепитию мама сетовала, как я похудела, а я думала, как она поправилась.
Прежде чем сесть за ужин, мы с Умберто отправились в мою комнатку, чтобы распаковать вещи. Среди них не оказалось его шелков, габардинов и лайковых ботинок. Он привез с собой джинсы, дорожные ботинки, хлопчатобумажные рубашки и вельветовые брюки.
– Ты самый тонкий человек в мире, – сказала я и обняла его.
Мама стала показывать ему мои старые фотографии и награды, которые все еще висели у нее на стенах.
– Сара была примерной студенткой, – приговаривала она. – Она всегда слыла первой в своей группе.
А на что еще могла я рассчитывать, подумала я со злостью. Ты превратила себя в затворницу. Отец пропадал у какой-то женщины. Мне пришлось самой себя делать.
На Умберто произвели впечатления мои награды: – Она никогда мне об этом не рассказывала! А какие красивые платья!
– Я сама их шила, – сказала мама с гордостью. – Теперь, конечно, она одевается в магазинах на Беверли-хиллз. Моя Сара достойна всего самого лучшего.

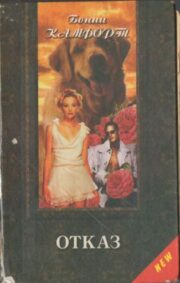
"Отказ" отзывы
Отзывы читателей о книге "Отказ". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Отказ" друзьям в соцсетях.