Отель «У озера» (хозяева — семейство Юбер) представлял собой бесстрастное, исполненное чувства собственного достоинства здание, почтенный дом, верное традициям заведение, привыкшее оказывать гостеприимство лицам рассудительным, состоятельным, удалившимся от дел, предпочитающим держаться в тени, уважаемым — постоянным своим клиентам ранней туристической эпохи. Заведение почти не прилагало усилий к тому, чтобы приукрасить себя ради случайных постояльцев, которых неизменно презирало. Мебель в нем была хотя и строгая, но превосходного качества, постельное белье безукоризненно чистое, обслуживание — безупречное. Его высокая репутация у людей посвященных и знающих привлекала новобранцев, клиентов порядочных и понимающих толк в отелях, и в этом — но только в этом — оно шло на уступку, как бы признавая собственные возможности. Что же до постояльцев, то само отсутствие каких бы то ни было соблазнов служило для него предметом извращенной гордости, так что всякого гостя без особых претензий, робко подыскивающего комнату, озадачили бы и отпугнули редкие фигуры на веранде, глубокое безмолвие в вестибюле, отсутствие приглушенной музыки, телефонов-автоматов, объявлений о разного рода экскурсиях по живописным местам и доски с указаниями, где и что следует посмотреть в городке. Не было ни сауны, ни парикмахерской и уж конечно стеклянных витрин с ювелирными изделиями; бар был темный и маленький, суровой своей обстановкой не располагающий к тому, чтобы в нем задерживались сверх необходимого. Подразумевалось, что долгие возлияния — по деловым соображениям или из потворства собственной слабости — отнюдь не comme il faut4, и если уж таковые возлияния совершенно необходимы, то предаваться им надлежит либо за дверями своего номера, либо в более доступных заведениях, где на подобное смотрят сквозь пальцы. После десяти утра горничные показывались крайне редко: к этому времени всем домашним шумам надлежало затихнуть. После десяти не слышно было гудения пылесоса, не видно ни одной тележки с грязным постельным бельем. Приглушенный шелест возвещал о повторном появлении горничных (расстелить постели и убраться в номерах) лишь после того, как постояльцы переодевались, чтобы сойти к ужину. Единственным видом рекламы, который отель не мог пресечь, были устные рекомендации старых заслуженных постояльцев.
Зато отель мог предложить своим гостям нечто вроде убежища, гарантию невмешательства в их личную жизнь, а также защиту и свободу действий, которые свойственны безупречности. Поскольку же последнее качество до удивления многим едва ли кажется привлекательным, то отель «У озера» обычно наполовину пустовал в эту пору года, в самом конце сезона, и смиренно опекал жалкую горстку гостей, прежде чем закрыться на зиму. Этих немногих, оставшихся от скромного наплыва постояльцев, чинно отдыхавших в июле и августе, обслуживали тем не менее столь же учтиво и почтительно, как если бы они были высокоценимыми старыми клиентами, каковыми некоторые из них и являлись. Естественно, развлекать их никто и не думал. Их потребности удовлетворяли так же заботливо, как считались с их характерами. Само собой разумелось, что они будут отвечать требованиям отеля в той же мере, в какой отель соответствует их ожиданиям. А если и возникали какие-то осложнения, то их разрешали без лишнего шума. В этом смысле отель был известен как заведение, которое неспособно навлечь на себя дурную славу и гарантирует целительный отдых тем, с кем жизнь обошлась сурово или всего лишь утомила. Название и адрес отеля фигурировали в картотеках людей, чье дело — знать о подобных местах. Про него знали некоторые врачи, знали многие адвокаты, знали брокеры и финансисты. Коммивояжеры про отель не знали либо не помнили. Семьи, которые регулярно отправляли пожить в нем кого-нибудь из домашних, доставляющих много хлопот, на него молились. И слухом о нем полнилась земля.
А отель и вправду был превосходный. И стоял удачно — у озера. Погода, конечно, оставляла желать лучшего, но была ничуть не хуже, чем в других таких местечках. Городок мог предложить немногое, однако с наймом автомобиля проблем не было, с экскурсиями тоже; от прогулок дух не захватывало, но они были приятными. Ландшафты, виды, гора как-то странно расплывались перед глазами, словно были нарисованы акварелью еще в прошлом веке. В то время как молодое разноплеменное поколение рвалось под солнце, на пляжи, кишело на дорогах и в аэропортах, отель «У озера» тихо, временами просто неслышно гордился тем, что не имеет с этими юными толпами ничего общего, и знал, что запечатлел себя в памяти своих старых друзей, а также и то, что пустит под свою крышу нового достойного претендента, лишь бы тот имел устные рекомендации от столь же знатного отеля и поручительство человека, чья фамилия уже значилась в семейных картотеках Юбера, каковые восходили к началу нынешнего столетия.
Спускаясь по широкой пологой лестнице, Эдит слышала сдержанный смех, долетавший эхом откуда-то из гостиной, где, вероятно, происходила церемония чаепития, но, когда она пошла в ту сторону, смех вдруг сменился яростным тявканьем, пронзительным и сварливым, ничего хорошего не сулившим покою и миру. У подножия лестницы съежилась, дрожа от страха, крохотная собачонка с глазками, упрятанными под висящими патлами. Никто не спешил к ней на помощь, и она завелась по новой, изо всех сил, но словно на пробу, как капризный ребенок. Продолжительные стенания, какие могли быть исторгнуты лишь под немыслимой пыткой, наконец возымели действие: с криком «Кики! Кики! Несносная собачонка!» из бара выбежала высокая, невероятно стройная женщина.
Ее узкая подергивающаяся головка наводила на мысль о птице чомге. Женщина упала на колени у лестницы, подхватила собачку на руки, осыпала поцелуями, все тем же бескостным змеиным движением прижала к лицу, как подушку, и вернулась в бар. Лужица на последней ступеньке лестницы заставила управляющего поморщиться и щелкнуть пальцами. Пока слуга в белой куртке невозмутимо орудовал тряпкой, словно такое случалось чуть ли не каждый день, управляющий отеля «У озера» (владельцы — семейство Юбер) выразил Эдит Хоуп сожаление в связи с тем, что сей инцидент омрачил ее прибытие, одновременно подчеркнув свою непричастность к невоспитанности домашних животных и, что важнее, к тем, кто их неразумно заводит. Последних он, разумеется, готов пустить под свой кров, однако ответственности за них не несет.
Как интересно, подумала Эдит. Женщина — англичанка. И какая необычная внешность. Вероятно, танцовщица. Она пообещала себе поразмыслить над этим попозже.
Гостиная приятно обманула ее ожидания после того, что она видела в своем номере. Пол был покрыт темно-синим ковром, в комнате стояло много круглых столов со стеклянным верхом, удобные старомодные кресла и небольшое пианино, на котором пожилой мужчина в галстуке-бабочке фабричной работы тихо наигрывал попурри из послевоенных мюзиклов. Выпив чаю и съев ломтик отменного вишневого торта, Эдит набралась смелости оглядеться. Народу в гостиной почти не было; большинство постояльцев, решила она, вернутся только к ужину. Бульдогоподобная дама мрачно жевала, широко расставив ноги и не замечая крошек, что падали ей на колени. Двое мужчин неприметной наружности перешептывались в дальнем углу. Седоватая пара — муж и жена, а может быть, брат с сестрой — разглядывала билеты на самолет, и мужчину время от времени отрывали от чая, отправляя посмотреть, не пришла ли машина. Хотя комната была светлая и веселая, в ней прежде всего ощущался дух мертвенного покоя. Понимая свой жребий, Эдит вздохнула, однако напомнила себе о том, что ей выпала отличная возможность закончить «Под гостящей луной», пусть сама она этой возможности и не искала.
Когда она вновь подняла глаза от книги, ни единого слова которой не дошло до ее сознания, то обнаружила, что как по волшебству гостиная ожила благодаря некой даме неопределенного возраста. Ослепительно пепельная блондинка с алым маникюром и в платье очаровательного (и дорогого) набивного шелка взмахивала ручкой в такт музыке, а на ее красивом лице играла довольная улыбка; официантки, явно привлеченные явлением столь милой особы, увивались вокруг нее, предлагая налить еще чашечку чая, взять еще ломтик торта. Она каждую одаривала теплой улыбкой, но самую сердечную приберегла для пожилого пианиста; тот встал, собрал ноты, подошел к ней и что-то тихо сказал, отчего она рассмеялась, затем поцеловал ей руку и удалился, и на его прямой узкой спине было написано, до чего он счастлив, что его оценили по заслугам. Откинувшись в кресле и держа чашку с блюдцем у рта, дама пила чай не просто изысканно — с выражением благосклонного соизволения; она и в самом деле являла собой восхитительное зрелище, будучи напрочь лишена мучительной неловкости, которая нападает на некоторых в незнакомой обстановке, и, несомненно, чувствовала себя как дома в стенах отеля, хоть тот и пустовал на три четверти.
Эдит смотрела на нее как загипнотизированная и только жалела, что упустила начало представления. Когда та тронула губы изящным кружевным платочком, на руке у нее вспыхнули кольца. Поднос убрали, и Эдит с замиранием сердца ждала, как поведет себя дама в промежутке между чаем и ужином, ибо это время для незваных и одиноких постояльцев отеля исполнено унылой тоски. Но дама, разумеется, была не одна.
— Вот и я, — пропел юный голос, и в комнату вошла девушка, облаченная в довольно облегающие (пожалуй, даже слишком, подумала Эдит) белые брюки, которые подчеркивали формы ее зада, напоминающие сливу «виктория».
— Вот и ты, дорогая! — воскликнула дама, которая была — не могла не быть — ее матерью. — Я только что закончила. Ты пила чай?
— Нет, но это не важно, — ответила девушка, которая представляла собой, как заметила Эдит, бледную копию матери, вернее, была создана по тому же шаблону, но не доведена до абсолютного совершенства родительницы.
— Как же так, дорогая! — воскликнула старшая дама. — Ты непременно должна выпить чаю! У тебя, верно, и сил не осталось! Ну-ка позвони в колокольчик. Нам приготовят еще.

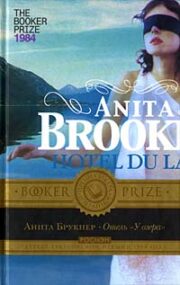
"Отель «У озера»" отзывы
Отзывы читателей о книге "Отель «У озера»". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Отель «У озера»" друзьям в соцсетях.