— Загружай ее, ребята, — приказал десятник. — Да побыстрее — опаздываем! Сначала — трактор и кофемолки. Кровельную жесть и все, что полегче, — наверх: чтобы не болталась.
Края сети затянули вокруг груза и вновь прицепили к крюку. Энтон и старший докер взобрались на вершину тяжелого груза. Ботинки застревали в ячейках сетки. Возбужденный работой, Энтон держал закрепленный на палубе расчаливающий канат. Другой рукой он схватился за погрузочный крюк. Седовласый докер с багром поднял свободную руку и описал в воздухе две окружности. Энтон прищурился, всматриваясь в туман. В это время включили корабельную лебедку, и крюк начал подниматься. Энтон наслаждался скрипом растягивающихся канатов.
Груз поднялся на четыре фута над причалом и завис. Под ногой Энтона кровельная жесть съехала на одну сторону. Груз качнулся. Нижний край сети висел всего лишь в нескольких дюймах над палубой.
— Пошла! — крикнул десятник, проверив, держится ли груз. Он поднял руку, и лебедка заработала.
В пятидесяти футах над пирсом листы жести рассыпались, будто колода карт; центр тяжести сместился. Старый докер потерял точку опоры. Он выронил багор и с криком упал. Энтон успел освободить буксировочный канат и подхватить падающего человека.
С минуту Энтон удерживал докера, уцепившись правой рукой за его ремень. Нагруженная сеть болталась из стороны в сторону, как безумная. Под ногами обоих мужчин острые края листовой жести резали канатную сеть. Лебедка дернулась и остановилась. Энтон услышал треск разрываемых веревок. Докеры понеслись в безопасное место. Трактор, контейнеры с кофемолками и жесть обрушились на пирс. Одного докера зажало между двумя контейнерами. Другого резануло краем листа жести по лицу.
Не обращая внимания на разыгравшуюся внизу трагедию, Энтон стиснул крюк левой рукой и держал до тех пор, пока старый докер не ухватился за вращающуюся сеть и спасся.
— С меня бутылка рома, юный Райдер. Ну и хватка у тебя — как у железнодорожного зайца!
Седой докер улыбнулся Энтону и татуировщику с полосатой, как у зебры, кожей. Те ждали его за столиком в глубине кафе «Старый Помпи». Старик держал за руку молодую женщину с утомленными глазами, забывшую о своей молодости, но все еще привлекательную.
— Девочка поможет тебе отвлечься. Ты только предоставь Хетти свободу действий — и не почувствуешь иголки.
— Спасибо, — смущенно пробормотал Энтон. Хетти поймала его взгляд и улыбнулась, словно между ними возникло что-то общее. Энтон потупился, больше нервничая из-за девушки, чем из-за иголок.
На столе перед Зеброй лежал мятый клочок промасленной оберточной бумаги с ястребом-тетеревятником. Рисунок расправили и закрепили на поверхности стола четырьмя маленькими чернильными пузырьками. Энтон закашлялся от дыма. Лицо без возраста и лысый череп татуировщика были сплошь покрыты зигзагообразными черными и белыми полосами. Они спускались к шее и исчезали под вязаным свитером с высоким воротом, из которого голова мужчины выступала, как голова черепахи из панциря. И вновь появлялись на запястьях и кистях рук.
Энтон вцепился в дальний край изрезанного стола. Долго ли будет больно? Женщина подвинула свой стул и положила руки ему на плечи. Пальцы коснулись шеи. Энтон напрягся. Что у нее на уме?
Зебра открыл обитый медью ларец из камфорного дерева, в котором хранил иглы. Выбрал одну — из китового уса. Раскупорил бутылочки с черными, серыми и темно-синими чернилами. Полосатой рукой туго натянул кожу; Энтон приготовился терпеть. Зебра вонзил ему иглу в правое предплечье, а тем временем женщина гладила бока до самых бедер. Собрав все свои силы, превозмогая боль, Энтон безмолвно боролся с обоими ощущениями, стараясь сосредоточиться на работе мастера.
Не отвлекаясь, поочередно тыча иглой то в бутылочку, то в кровоточащую плоть, Зебра совершал методичные движения. Девушка прижалась худым телом к спине Энтона. Потом взяла в одну руку стакан матросского рома и поднесла к его губам. Другая рука скользнула в карман его брюк.
— У тебя есть терпение, — похвалил Зебра, закручивая пробки. Потом сбрызнул татуировку ромом и жесткой рукой стер алкоголь вместе с кровью. — Бывают слюнтяи — еще не успеешь уколоть, а они уже вопят, будто их режут.
Гордый и счастливый, Энтон залюбовался птицей. Хетти пересела к Зебре.
— Зачем тебе эта татуировка? Когда ты шевелишь мускулами, кажется — ястреб летит.
— Чтобы не забыть, зачем я отправляюсь в Африку.
Про себя Энтон молился, чтобы ему не пришлось пожалеть. Прощайте, леса, прощай, цыганский табор — все, что до сих пор составляло его жизнь! По ночам он не мог уснуть: пытался представить Африку.
— И зачем же?
— Хочу увидеть всех этих зверей. Хочу стать свободным и богатым. В Помпи нет приличной работы. Стоит кому-нибудь покалечиться, десяток демобилизованных дерется, чтобы занять его место. Хочу верхом на собственной лошади объезжать собственную землю!
Глава 5
Швейцар клуба «Мутхайга» в Найроби почтительно наклонил увенчанную чалмой голову:
— С возвращением, бвана, милорд!
— Ты все еще в строю, Хавилдар?
Адам Пенфолд качнулся на костылях и похлопал старого сикха по плечам. Этот белобородый сержант по-прежнему носил полосатые ленты давней викторианской кампании.
— Не задерживайся, мое сокровище, — предупредила леди Пенфолд, проходя в вестибюль впереди мужа и устремляя взгляд светлых холодных глаз в большое настенное зеркало. Она поджала губы и разгладила ладонями цветастое платье, свисавшее с угловатых плеч.
— Боюсь, что не все члены клуба сегодня сдадут тебе ружья и тропические шлемы, — продолжил Адам Пенфолд.
— Увы, милорд. Девятнадцать человек сложили головы во славу короля.
Сухопарый, прямо держащий спину индус бросил взгляд в дальний конец подъездной аллеи, туда, где алые бельгийские маки окаймляли мемориальное сооружение в честь павших воинов.
— Грустно, Хавилдар. Только львы да малярия унесли больше жизней, если не считать захлебнувшихся джином.
— По крайней мере, мы исполнили долг перед отечеством, — бормотал про себя Пенфолд, входя в широкие двери. — «Расслышали за морями трубы Англии…»
Процент потерь среди европейского населения Кении, до войны составлявшего семь с лишним тысяч человек, был самым высоким в Британской империи. Из двухсот человек, отправленных воевать во Францию, уцелело всего семь десятков. Клуб «Мутхайга» лишился половины своих членов.
— Слава Богу, они не стали наводить марафет, то есть переворачивать все вверх дном, — с облегчением заметил лорд Пенфолд, опускаясь в свое любимое кресло — глубокое и удобное, с потрескавшейся сафьяновой обивкой.
— Если я согласилась терпеть этот задрипанный бар, — раздался над ухом голос жены, — надеюсь, ты не станешь целый вечер обсуждать со старыми занудами, чем травить овечьих паразитов и кофейных клещей.
— Кофейных клещей не существует, — спокойно ответил Пенфолд, доставая трубку.
Сисси проигнорировала реплику.
— До войны это был нескончаемый треп о львах. Потом — целых четыре года — кто взял в плен больше колбасников. Теперь все помешались на борьбе с саранчой. Почему обязательно нужно кого-то убивать?
— Хочешь «Пиммс», дорогая?
Пенфолд постучал костылем по паркету, подзывая официанта. А заказав выпивку и арахис, в который раз задумался о том, почему он предпочитает «Матхайгу» лондонским клубам. Там тоже царила атмосфера доброжелательности и уважения к маленьким слабостям каждого. Но здесь к ним добавились терпимость к излишествам и ребяческой лихости. Как будто это тоже Англия, но не совсем. К примеру, можно бить посуду и разбрасывать бильярдные шары, если выдался плохой урожай — или, наоборот, хороший.
Пенфолд перевел взгляд на массивный камин, согревший до войны столько вечеров! На каменной поверхности кто-то вырезал надпись на суахили: «Я приношу удачу». Скольких друзей и однокашников он больше никогда не увидит!
Пенфолд вздрогнул. От стойки бара донеслось насмешливое: «Сердце Ронни вернулось в Африку, а ноги остались в Бельгии».
Мысли леди Пенфолд витали в другом месте. Притихнув — только лед звенел в бокале, — она наблюдала за тем, как муж опустошает тарелку с неочищенными земляными орешками. Он совсем не изменился. «Мужчины — большие дети, — любила повторять мать Сисси, — падкие на лесть и сладости». Сладости бывают разные — это Сисси усвоила много лет назад.
Но до чего же странно, думала она, оглядывая обшарпанные обои и с сожалением вспоминая об их первоначальном цвете, что ее добрый, надежный муж, все еще интересный мужчина, не способен удовлетворить ее ненасытное тело, в то время как отвратительный карлик заставляет ее корчиться от наслаждения. Да и сам Адам — нельзя не признать — не особенно нуждался в ней, предпочитая возиться с оловянными солдатиками. Когда супруги Пенфолд лежали рядом в постели, температура их тел понижалась до могильной. Зато стоит ей подумать о безобразном Оливио, ее бросает в жар. Маленькие мужчины — учила мать — самые лучшие любовники. Но этот карлик — что-то особенное!
— Неужели этого паразита приняли в клуб? — удивленно воскликнул Пенфолд, завидев в дверях Губку Хартшорна, и отвернулся, чтобы не встретиться с ним взглядом. Сисси не удостоила мужа ответом. Тогда он продолжил: — Этот проходимец ни разу не заплатил за выпивку. Клуб должен учредить приз за мошенничество — специально для него.
Он заметил наконец, что Сисси не слушает, но по инерции пробурчал:
— Этот субъект — из тех, кто всю жизнь носит галстуки чужого колледжа. Корчит из себя щеголя, а вкуса ни на грош. Типичный государственный служащий, если ты понимаешь, что я имею в виду.
Теперь Пенфолд развлекался тем, что делил арахис на две неравные кучки: с двумя ядрышками — налево, с одним — направо. Ему попался орех с тремя ядрышками. Поколебавшись, он отправил его в рот. Мысли по-прежнему были обращены к Губке Хартшорну.

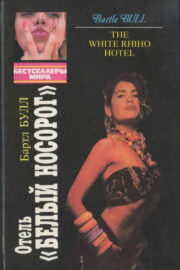
"Отель «Белый носорог»" отзывы
Отзывы читателей о книге "Отель «Белый носорог»". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Отель «Белый носорог»" друзьям в соцсетях.