– Даме дурно!.. Скорей позовите горничную из сто второго!
Он подхватил Фани под руку и повел ее между столиками так ловко и естественно, что никто не мог предположить ничего особенного, точно они были обыкновенной парой, выходившей из бара. Она пробормотала глухо: «Thanks»,[10] а он сказал:
– Думаю, что наверху вам станет лучше. А сейчас постарайтесь, чтобы вас не вырвало.
– Меня не вырвет, – ответила она. – Просто в одном идиотском баре я пила паршивое виски.
Она шла послушно, спокойно, опираясь на его руку. С удивительным самообладанием она делала вид, что все это ее ничуть не задело, точно хотела сказать: «Я напилась совершенно случайно… так?… взбрело в голову» – и точно все это не имело другой, более глубокой причины. Когда они пришли к ней в номер, он уложил ее в постель и укрыл одеялом. Она следила за его движениями усталыми, блуждающими, но чуть удивленными глазами.
– Лучше всего вам заснуть, – сказал оп.
– Да, я постараюсь заснуть.
И она прикрыла веки, отекшие и синие, придававшие ее лицу мертвенный вид.
Он постоял еще немного возле ее кровати, пока усталость и алкоголь не погрузили ее в тяжелый сон. Потом он обратился к горничной, стоявшей в дверях:
– Сеньора больна. Если она проснется и позвонит, сразу вызови меня по телефону.
Он знал, что Фани Хорн проснется через несколько часов, и тогда мучительная жажда морфия охватит ее о новой, еще более страшной силой. Он хотел быть в эту минуту рядом с ней и несколькими уколами спасти ее от припадка. Выйдя от нее, он пошел в аптеку и купил шприц, спиртовку и все остальное, необходимое, чтобы приготовить стерильный раствор морфия и сделать укол, не опасаясь инфекции. Весы были у него в чемодане. Тщательно все приготовив, он поужинал в ресторане, потом послушал в холле струпный оркестр и ушел в свой номер. Во всех этих заботах о Фани Хорн было для него что-то странное и волнующее, они как будто вырвали его из холодной пустоты той жизни, какую он вел до сих пор. Ему захотелось пойти к ней, сесть возле ее кровати и ждать ее пробуждения, чтобы ни на мгновение не оставлять ее одну в приступе страданий и безумия. Когда она под действием морфия успокоится, с ней можно будет поговорить разумно. Он мог бы посоветовать ей начать лечение с постепенного уменьшения доз, заняться спортом, закалять волю. Но все эти размышления пробудили в нем насмешливую жалость к самому себе. Он, контрабандист, торговец наркотиками, обдумывает, как вылечить морфинистку! Ему пришло в голову, что оп похож на старинных бандитов со Сьерра-Невады, которые совершали всяческие злодейства, а потом где-нибудь в пещере вершили суд и часть добычи раздавали бедным. С тех пор как он вернулся в Испанию, он день ото дня совершает все более глупые поступки. Не удивительно, если он начнет ходить на литургию. «Надо поскорей ехать в Буэнос-Айрес», – подумал оп, точно столица Аргентины, с ее вертепами и кабаками, – какой-то санаторий для нравственных калек, где он исцелится.
Все в том же саркастическом настроении он выкурил сигарету, надел пижаму и лег, но не мог уснуть. Перед ним снова возникло лицо Фани Хори, и опять его охватило настойчивое желание помочь ей до наступления кризиса, прежде чем ее увезут в клинику, где ее состояние ухудшится. «Жоржет Киди, – горько подумал Луис, – то же самое было и с Жоржет Киди». И ее оп хотел спасти от пороков, от падения, от физического разрушения, но не сумел. Почему его влекли к себе только такие, проклятые судьбой женщины? И он опять посмеялся над собой.
Кто-то тихо постучал в дверь. Это была горничная со второго этажа. Послышался ее голос:
– Сеньора проснулась, и ей, по-моему, очень худо.
– Иду! – сказал Луис.
Он знал, что увидит, и все же картина, которую он застал, его потрясла. Он тут же мысленно восстановил трагическую сцену, недавно разыгравшуюся в этой комнате. Фани проснулась и героически решила продержаться остаток ночи; окурки и пустая бутылка из-под вермута указывали на ее старания бороться до конца, но жаждущий яда мозг не дал ей забыться, и, когда начался припадок, шум заставил горничную прибежать к ней. Сейчас она лежала совершенно обессиленная, бесчувственная на вишневом ковре, а одежда ее валялась по всей комнате. Волосы рассыпались в беспорядке, юбка от костюма была измята, блузка разорвана в клочья. Было что-то безобразное и щемящее в раскиданных по комнате вещах, в перевернутых стульях, в разбитом зеркале гардероба, в сорванных гардинах, в кровавых бороздах на лице, которое она расцарапала ногтями, в наготе ее плеч и рук, время от времени вздрагивавших. Но ужаснее всего были ее расширенные блуждающие глаза, в которых все еще не угасла ярость безумия.
– Все это похоже на пляску святого Витта, – сказала горничная и перекрестилась.
– Помоги мне перенести ее на кровать, – приказал Луис.
Они вдвоем положили Фани на широкую кровать. Под ярким светом лампы, стоявшей на тумбочке, царапины на лице несчастной обозначились еще ярче.
– Pobrecita![11] – ахнула горничная. – Эту болезнь лечат?
– Конечно! – ответил Луис – Завтра вызовем врача.
– Если это пляска святого Витта, лучше бы пригласить священника!
– Нет, это не пляска святого Витта, – сухо произнес Луис – Ты давно знаешь сеньору?
– Три месяца. Раньше она жила в отеле «Риц». Сеньора иностранка и, сдается мне, не очень-то счастлива.
– Видимо, так, – ответил Луис. – У нее есть друзья?
– Нет. Никого.
– Как она относится к тебе?
– Очень плохо, сеньор, хотя и щедра на чаевые. Впрочем, когда человек беден, оп предпочитает второе.
– Да, да, – рассеянно усмехнулся Луис. Вынул кредитку и дал ее женщине. – Если никто не узнает, что у сеньоры был припадок, это будет гораздо лучше для тебя. Завтра пораньше с утра убери комнату и повесь гардины. Про зеркало скажешь, что оно разбито случайно.
– Хорошо, сеньор!..
– Можешь идти.
Когда горничная вышла, Луис приблизился к Фани со шприцем и стерильным раствором в руке. При виде шприца в глазах ее сверкнула дикая радость.
– Ты сумеешь сделать укол? – спросил он.
Мысль самому вонзить иглу ей в тело была ему отвратительна.
– Да, конечно, – прошептала она.
– Сколько сантиграммов?
– Тридцать.
Луис содрогнулся. Эта доза вполне могла бы убить здорового человека, но для нее она была нормальной. Он отмерил нужное количество, подал ей шприц и вату, смоченную спиртом, и отвернулся. Он не хотел видеть, как она вгонит иглу себе в бедро или в руку. Когда он снова повернулся к ней, она уже отложила пустой шприц на тумбочку и откинулась на подушку. Усилие утомило ее, но все же она нашла в себе силы посмотреть на Луиса с признательностью и произнести по-испански чуть слышное gracias.[12]
Через несколько минут морфий начал действовать, и она погрузилась в блаженное забытье. Луис знал, что для нее это было возвратом к нормальному самочувствию. На ее мертвенно-бледных щеках проступили розовые пятна, потом они разлились по всему лицу, а ее заострившиеся черты смягчились, и лицо приняло счастливое, мечтательное выражение. Она оставалась в таком состоянии около получаса, потом приподнялась, опершись локтем на подушку, и вперила в Луиса глаза, все еще холодные и тоскливые, но какие-то умиротворенные, в которых не было и следа прежней дикой истерии и кровавого пламени. Она еще раз слабо произнесла gracias, и Луис подумал, что, наверное, так она говорила и смотрела с северным спокойным холодком в голосе и в глазах давно, много лет назад, когда была совсем молодой девушкой. Больше она ничего не сказала, опустилась на подушку и заснула, а Луис вышел, предварительно убрав морфий и шприц в тумбочку возле ее кровати.
III
На другой день Луису захотелось как можно скорей увидеть Фани Хорн. Но он не стал звонить ей по телефону, боясь нарушить ее полезный и укрепляющий сон. Чтобы как-то убить время, пока она, по его расчетам, не проснется, он отправился в Ретиро и выпил кофе в баре «Флорида». Потом погулял в парке, наблюдая, как бесчисленные стайки испанских детей, которым предстояло заместить жертвы революции, играют в аллеях в мяч и бегают с обручами. Когда он вернулся в отель, ему передали, что англичанка спрашивала о нем и недавно ушла. Его удивило, что Фани Хорн сама им интересуется. Но может быть, она просто хочет сказать ему несколько сухих слов благодарности. «Я увижусь с ней за обедом в ресторане», – подумал он. И так как было всего одиннадцать часов, он решил пойти в Прадо.
В музее он стал бродить по залам среди портретов королей и святых, на лица которых нельзя было смотреть без ужаса, потому что у всех было почти одинаковое выражение грешников, истерзанных мыслью о боге и загробном мире. Студенты из академии бездарно копировали полотна великих мастеров, а редкие посетители – провинциалы и иностранцы – с невежеством профанов подходили вплотную к картинам, чтобы прочитать подписи.
Дойдя до Веласкеса, он с удивлением увидел Фани Хорн, сидевшую спиной к нему на диване в середине зала. Она внимательно рассматривала картины кисти великого мастера.
– Ты здесь? – спросил Луис, приблизясь к ней и слегка коснувшись ее плеча.
– Hombre! – вскрикнула она, оборачиваясь, и протянула ему бледную, точно мрамор, руку.
Ее восклицание было приветливым, непринужденным и даже радостным. Теперь все в пей дышало элегантностью и кокетством, и только царапины на лице еще напоминали о ночном припадке. В глазах играл мягкий изумрудный свет. От глубокого сна, ванны и утреннего укола морфия она порозовела. На ней был другой костюм, более светлый, и это подчеркивало нежные акварельные тона ее белокурой головки.
– В сущности, я тебя ждала, – сказала она.
– Правда? – удивленно спросил Луис.
Оглядев ее лицо, изящные и нервные очертания лба, шеи и ноздрей, он вдруг осознал, что она редкостно красива.
– Ты часто приходишь сюда, – объяснила она. – Я видела тебя несколько раз. Тебя легко запомнить.

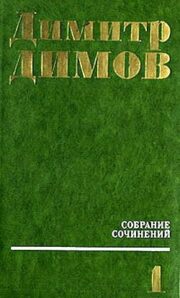
"Осужденные души" отзывы
Отзывы читателей о книге "Осужденные души". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Осужденные души" друзьям в соцсетях.