– Hombre!.. – воскликнула Фани. – Неужели вы не поняли, что я хочу уйти отсюда!.. Я не желаю смотреть на казнь!
– Разве?… – с притворной наивностью спросил капитан Сигуэня. – Но вы должны были сказать мне об этом раньше! Отсюда уж никак не выбраться.
– Прошу вас, сеньор!.. Уведите меня отсюда! – произнесла она в отчаянии.
Но ее слова потонули в общем шуме – внезапно вся площадь пришла в движение и загудела. Сквозь толпу, по коридору, очищенному солдатами, открытый грузовик вез осужденных к лобному месту. Жадные до зрелища люди вытягивали шеи, поднимались на цыпочки. Каждый хотел видеть осужденных, пристальней всмотреться в их лица и ощутить животную радость оттого, что он не на их месте. Всеобщее возбуждение овладело толпой. Те, кто стоял сзади, старались протолкаться и оттеснить передних; то тут, то там вспыхивала перебранка. Два маленьких чистеньких кюре возмущенно рвались в первый ряд, откуда их вытеснила компания арагонских добровольцев. Тихие и скромные в других обстоятельствах, сейчас они были одержимы бесстыдным любопытством. Спор был таким ожесточенным, что капитану Сигуоия пришлось вмешаться.
– Сеньоры! – обратился он к добровольцам. – Имейте уважение к отцам!
Но арагонские господа ни за что на свете не хотели тронуться со своих мест, и священникам пришлось, сняв шляпы, просунуть свои стриженые головы между плечами узурпаторов.
Тем временем грузовик с осужденными медленно приближался к месту казни. До сих пор толпа, скованная жгучим любопытством, молчала, но тут она вдруг вспомнила о ненависти, которую должна была к ним испытывать.
– Смерть коммунистам!.. – крикнул фалангист с перевязанной рукой.
Он уже испытал на себе мрачный гнев литейщиков Бильбао и в этот день вышел из больницы, специально чтобы присутствовать на казни.
Его голос был сигналом к буре фанатических выкриков.
– Muerte a los rojos!.. Muerte a los rojos!..[65] – закричали приверженцы дона Луиса де Ковадонги.
– Сукины дети!.. – ревели арагонцы.
– Антихристы! – вопили богомольные испанки, которые каждое утро, закутавшись в черные вуали, ходили на литургию.
– Мерзавцы!..
– Вероотступники!
– Предатели!
– Давайте убьем их!.. – кровожадно предложил молодой легионер, вытаскивая кинжал.
Но рядом с ним стояла его благоразумная сестра, которая дала ему подзатыльник и сказала сердито:
– Помалкивай, Хуанито!
Крики роялистов, фалангистов, легионеров и всех тех, кто был за господа бога, короля и Испанию, были подхвачены другими глотками, и остальные тоже яростно заревели, то ли для того, чтобы понравиться властям, то ли потому, что заразились криками себе подобных, хотя, в сущности, они ненавидели «движение», разрушившее их спокойствие.
Все это время Фани стояла, опустив глаза. От воплей и крика у нее кружилась голова. Внезапно она услышала рокот автомобиля совсем рядом с собой и почувствовала настойчивое желание закрыть глаза руками. Но неужели она боится увидеть Доминго, неужели она не хочет ободрить его хотя бы взглядом? Какой это подлый страх, – страх перед смертью, страх перед подвигом осужденных, страх перед собственной пассивностью! И она посмотрела на осужденных.
Чтобы не смять толпу, грузовик шел совсем медленно. В кузове стояли трое осужденных со связанными за спиной руками, под охраной солдат, державших ружья на изготовку. На Доминго все еще были брюки Робинзона и изорванная в клочья рубаха. Из-под лохмотьев виднелось тело, посиневшее от побоев. На лице и локте запеклась кровь. Рыжеволосая голова была гордо вскинута, губы презрительно улыбались ревущей толпе. Он молчал, а его товарищи, люди простодушные и необразованные, ругали толпу, огрызались и с чисто испанской непримиримостью грозили тем, кто особенно неистовствовал.
– Безбожники!.. Предатели!.. – вопила толпа.
– Сукины дети!.. – яростно отвечали осужденные, – Завтра наши точно так же расправятся с вами!
Но эти угрозы только разжигали гнев толпы, а также солдат. При каждом выкрике на спины осужденных обрушивались приклады.
– Христопродавцы!
– Предатели Испании!
– Смерть вам!
– Красные собаки!
– Антихристы!.. Антихристы!.. – истерически взвизгивали двое прилизанных маленьких кюре и подскакивали, как черные мыши, за широкими спинами арагонцев, делая отчаянные попытки прорваться вперед. Наконец это им удалось, и они встали на место тучного арагонца с закрученными усами, который, не в силах больше выносить это зрелище, стал выбираться из толпы.
– Es una porqueria![66]– гневно сказал арагонец.
Он вытер потное лицо платком и возмущенно сплюнул. В своем родном селе он был заядлым драчуном, но он не мог смотреть, как истязают связанных людей.
– Вон Доминго Альварес!.. – вдруг крикнул один из кюре. – Сеньоры, это бывший монах!..
– Иуда Искариот!.. – добавил другой.
– Как?… Монах?… – возмущенно спросил кто-то.
– Монах!.. Монах!..
– Он бежал к красным!
– Плюйте на него!.. Расстреляйте его скорей! – ревела толпа.
Доминго Альварес встретил атаку с холодной презрительной надменностью. За него ответили его товарищи.
– Эй вы, паразиты!.. – крикнул один из них, обращаясь к священникам. – Мы повесим вас за ноги, вниз головой.
– Попробуй, собака!.. – раздался из толпы голос какого-то верующего.
– Бильбао и Саламанка покраснеют от крови попов.
Но эта смелая фраза стоила осужденному такого удара в ребра, что он согнулся пополам и стал харкать кровью.
Вдруг лицо Доминго побагровело от ярости. Его мощная грудь расправилась, набрала воздуха, и из горла вырвались звуки, казалось, исходившие из иерихонской трубы.
– Испанцы!.. – взревел он с такой силой, что заглушил все крики. – Испанцы!..
Толпа притихла в изумлении. Даже солдаты, пораженные этим криком, перестали бить прикладами связанных страдальцев.
– Испанцы!.. – ревел бывший монах Доминго Альварес – Мы боремся за вас! Мы умираем за вас!
Офицер из толпы знаком приказал солдатам заставить его замолчать, и на спину и плечи осужденного с новой силой посыпались удары прикладами. Но эти удары не повалили крепкого, атлетически сложенного парня и не заставили его замолчать.
– Испанцы!.. – продолжал он. – Мы хотим спасти вас от тирании аристократов, от безумия попов, от грабежа капиталистов!.. Вот почему они хотят уничтожить республику… Вот почему они нас убивают!.. Испанцы!.. Бейтесь за республику!
И он прокричал еще несколько раз:
– Бейтесь за республику! Бейтесь за республику!
– Да здравствует республика!.. Да здравствует свобода! – стали кричать и двое других осужденных.
Фалангисты, легионеры, роялисты, наваррские добровольцы и певцы серенад из пламенного Арагона мрачно переглянулись, точно хотели принять общее решение. И они его приняли. Колебание их длилось всего один миг. С диким криком они прорвали кордон, вскочили на грузовик и вытащили свои ножи.
– Безумцы! – успел крикнуть Доминго Альварес.
Тела осужденных осели под ударами блестящих ножей. Из кузова грузовика потекла кровь. Толпа ревела. Фани закрыла глаза. Когда она их открыла, грузовик медленно отъезжал задним ходом, непрерывно сигналя, чтобы ему очистили путь.
Внезапно она почувствовала себя совсем плохо. Ее бил озноб, суставы болели, ноги подкашивались, губы пересохли. Головная боль, начавшаяся с утра, стала невыносимой.
– Сеньора, разрешите вам помочь? – спросил какой-то мужчина.
– Нет… я сама…
Делая нечеловеческие усилия, она дотащилась до машины и повалилась на сиденье.
– Поезжай… в лагерь… – приказала она Робинзону.
С северо-запада долетали звуки артиллерийской канонады. Два батальона наваррских стрелков и одна батарея двигались к Медина-дель-Кампо. Робинзон затормозил и высунулся из машины.
– Что, ребята, снова начинают? – спросил он.
– Да, сеньор.
– Кто?
– Красные!
Приехав в лагерь, Фани тотчас легла и приказала Кармен накрыть ее всеми одеялами. Потом она смутно осознала, что в палатку вошел Эредиа, что к ее губам подносят лимонад… Монах сделал ей два укола кардиазола. Потом она услышала его голос, далекий и чужой, который говорил Кармен:
– У сеньоры сыпной тиф…
«Конец, – подумала Фани. А потом подумала: – Нет… Еще нет».
Монах взял свою сумку и опять вернулся в общие палатки. Там было много больных, которые агонизировали. Он разделил между ними последний запас кардиазола и камфоры. Но одну коробочку с ампулами отложил. Эту коробочку он предназначал Фани, хотя ее жизни еще не грозила опасность. Он не притронулся к этим ампулам, даже когда увидел, что они могли бы спасти от смерти еще нескольких умирающих бедняков. Эти бедняки умерли у него на руках.
Далеко за полночь он вошел в часовню, и губы его зашептали: «Господи, прости мне любовь к этой женщине…» Но вдруг прогремел выстрел. Монах протянул руки и рухнул наземь. И захлебнулся в своей крови.
А в степи была ночь. На небосводе дрожали звезды. Из палаток долетали приглушенные стоны больных. Незарытые трупы продолжали смердеть, разносился гул республиканской артиллерии. Была черная, таинственная испанская ночь, ночь мертвецов, ночь убийств, ночь отмщения…
Какая-то тень, бесшумная, как призрак, незаметно скользнула в палатку.
В степи жалобно выли шакалы.
Дон Бартоломео Хил де Сарате, муж благородный и храбрый, обладал большим запасом теоретических знаний, но весь его военный опыт исчерпывался участием в нескольких карательных экспедициях против полудиких марокканских племен. Поэтому благочестивый и героический порыв своих войск он израсходовал на крайне сложные передвижения, смысл которых остался непонятным даже самому штабу. Красные батальоны, состоявшие из ткачей и металлургов Бильбао, напротив, сражались под командованием неопытных скороспелых сержантов, чьи мозги не были затуманены принципами высшей стратегии. Эти плебейские командиры разили упорно, внезапно и прямо в цель. После двухдневных боев, в которых дон Бартоломео потерял цвет своих отборных наваррских войск и даже роту молодых кастильских аристократов, Пенья-Ронда была окружена. Это произошло так неожиданно и так быстро, что дон Бартоломео не сумел своевременно отступить вместе со своим штабом, как это допускал устав, к соседнему аэродрому, где ждали два немецких «юнкерса». Предоставив населению три часа на эвакуацию, красные атаковали и взяли город. Им пришлось ввести в бой артиллерию, потому что наваррцы не сдавались и, забаррикадировавшись в домах, самозабвенно умирали за бога и короля. Металлурги, напротив, дрались спокойно, предлагали противнику сдаваться и по возможности сохраняли город, хотя и ценой своей крови. Было разрушено много домов, и пало много испанцев. Сухая земля с одинаковой жадностью впитывала дворянскую и плебейскую кровь. Пролетарские лохмотья и роскошные мундиры выглядели одинаково трагично, валяясь на земле. Пали фанатичные наваррцы, посвятившие свою жизнь Богородице, пали богатые арагонские крестьяне, любители боя быков, вина и серенад, пали аристократы, носители славных имен, чемпионы по игре в поло и стрельбе в голубей, пали фалангисты и легионеры, давшие кондотьерскую клятву Франко. Все они перед смертью расстегивали рубахи и целовали распятие, висевшее у них на груди, чтобы души их попали в рай. Но пали и рабочие Бильбао, которые не носили распятия, не верили в святых, не думали о бессмертии своей души. Пали почерневшие от фабричного дыма люди труда, которые хотели больше хлеба и больше воздуха для своих детей, пали честные труженики мысли, которые не могли терпеть эгоизма и высокомерия аристократов. Но больше всех пролили крови и в самые опасные места бросались рабочие. И так красные наступали от окраин к центру, сражаясь за каждую улицу и за каждый дом, и наконец окружили со всех сторон офицеров дона Бартоломео. Красные предложили им сдаться, но благородные идальго отказались, потому что они оставались высокомерными и чванными даже перед лицом смерти. И тогда кастильские дворяне, сунув пистолеты себе в рот, убили себя последними пулями среди бархатных портьер своего штаба, чтобы не позволить простонародью коснуться аристократов. Так пала Пенья-Ронда, и так снова пролилось много испанской крови за бога и короля.

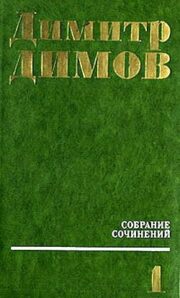
"Осужденные души" отзывы
Отзывы читателей о книге "Осужденные души". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Осужденные души" друзьям в соцсетях.