– Прочь отсюда! Не прикасайтесь больше ко мне! Это подло! Вон из палатки, сейчас же!
– Палатка моя, – произнесла она как во сне.
– Все равно! Прочь отсюда, сейчас же! Приходите через полчаса!.. Я должен остаться с ним, сделать ему укол…
И опять как во сне она подчинилась и пошла к выходу из палатки.
Конец!.. Больше нечего ждать. То, что случилось, убило в ней всякую способность реагировать на происходящее, хотя бы припадками истерии. Она только чувствовала, что в ней не осталось ничего, кроме ненависти, злобной и нерассуждающей воли к действию, но у нее не было сил ни сказать что-нибудь, ни подумать, ни сделать. Она только чувствовала, как какая-то спазма сдавливает ей горло, а легким не хватает воздуха. Воздуха!.. Больше воздуха! Почему здесь такой адский климат, почему ночь такая душная! Сделав несколько шагов, она глубоко вздохнула и сразу ощутила зловоние трупов. Внезапно ей захотелось увидеть гору трупов всех монахов Испании. Если бы сейчас партизанский отряд коммунистов или анархистов напал бы на лагерь, или на резиденцию иезуитов в Толедо, или на любой монастырь, она бы рукоплескала, она бы стреляла и убивала вместе с ними. Красные, только красные могут истребить монахов, избавить Испанию от этой черной, мерзостной средневековой орды. Теперь она понимала смысл поголовных убийств, той ярости, с какой анархисты волокли тогда Эредиа. Да, только красные могут спасти Испанию!..
Глупости!.. Неужели ее вообще интересует Испания?
Ей понадобилось несколько минут, после того как она вошла в свою палатку и повалилась на кровать, чтобы остыть от бешенства, прийти в себя и опять осознать свое жалкое падение, опять увидеть себя такой, какой она и была на самом деле, – тщеславным ничтожеством, истерической куклой, которая жила потом своих арендаторов, светской блудницей, которая бегала за киноактерами, боксерами и бездельниками и наконец погналась за сумасшедшим испанским монахом. Но как она сейчас ненавидит этого монаха, как хотела бы перегрызть ему горло с яростью пантеры! Ее фантазия рисовала сцены апокалипсической жестокости, изобретала планы, подыскивала слова, которые вонзились бы ему в сердце, поранили бы его гордость так, чтобы брызнула кровь. «О, преподобный глупец из Христова воинства!.. Ты дорого, очень дорого заплатишь мне за все это! Увидишь, до каких унижений ты дойдешь, как ты будешь валяться у меня в ногах, как ты будешь просить милости! Я не уеду из лагеря, пока не отомщу, не уеду…»
– Вы что-то сказали, сеньора? – сонно спросила Кармен.
– Нет.
– Мне показалось, вы только что говорили.
– Тебе послышалось.
– Как дон Сантьяго?
– Плох.
– Saritisima Vir gen![50] Есть надежда, что он поправится?
– Не знаю.
– Вы, наверное, сидели у него в палатке и устали. Хотите, я вас сменю?
– Там отец Эредиа.
– Бедный дон Сантьяго!..
Фани сбросила пеньюар и стала надевать платье.
Кармен вскочила с постели.
– Куда вы, сеньора? – спросила она испуганно, глядя на красные пятна гнева на лице и шее своей госпожи.
– К отцу Оливаресу.
– Одна?… Мне пойти с вами?
– Не надо!.. Ложись и спи! – грубо приказала Фани.
Она накинула плащ и с фонариком в руке вышла из палатки. Ее злоба и ненависть поутихли. Она стала думать о Мюрье. Проходя мимо его палатки, заглянула внутрь. Эредиа сидел возле его постели. Мюрье продолжал тихонько бредить, но выглядел лучше. Лицо смягчилось, дыхание стало не таким затрудненным. Надо что-то сделать для Мюрье. Первой ее мыслью было на другой же день перевезти его в Пенья-Ронду, в какую-нибудь чистую и прохладную комнату, и остаться с ним, пока он не выздоровеет. Это надо сделать непременно, потому что жара и духота в палатке его убьют. Теперь она хотела найти Оливареса или Доминго и попросить кого-нибудь из них рано утром сходить в городок и подыскать комнату.
Фани пошла между рядами палаток. На нее пахнуло трупным запахом с другого конца лагеря. Ущербная луна поднялась высоко над горизонтом. Лагерь спал или, точнее, агонизировал, потому что многие больные, стонавшие, бредившие или умолявшие дать им воды, не доживут До утра. Страшно было подумать, что ночью дежурили всего один или, самое большее, два человека на весь лагерь и что даже это дежурство теперь стало излишним из-за отсутствия лекарств. В самом деле, у дежурных не было средств борьбы против заразы, проникшей в организм, но они могли хотя бы поддерживать сердце, подкреплять силы больного, если бы хватало лекарств. А теперь они были всего лишь беспомощными свидетелями смерти. Они уповали, как дон Эладио, на природу или, как сами больные, на бога. Кто поправлялся, тот поправлялся, кто умирал, тот умирал. Назначение дежурных состояло в том, чтобы сделать один-единственный укол кардиазола какому-нибудь страдальцу, если они замечали, что он начинает агонизировать, укротить беснующегося, поднести стакан лимонада жаждущему, когда его крик становился особенно душераздирающим. И этот ад, это скопление палаток, набитых грязными, вонючими, полумертвыми, вшивыми телами, еще продолжал носить блестящее имя «Полевая больница отцов-иезуитов», а глупцы – в том числе и Эредиа – продолжали думать, что в ордене Лойолы, в духовенстве, в католической церкви живет сердце Христа! Жалкие безумцы, подлые фарисеи и предатели Христа! В алтарях ваших соборов, в капеллах ваших монастырей, во дворцах кардиналов, в Эскуриале, Мадриде, Толедо, Севилье… везде, по всей Испании у вас собраны тонны золота, серебра и слоновой кости, множество бесценных бриллиантов, изумрудов, рубинов, топазов, которых достаточно, чтобы уничтожить эпидемии и страдания, вместо того чтобы класть умирающих оборванцев на кучи соломы. Фанг быстро шла через лагерь к одной из двух больших палаток, чтобы поговорить с Оливаресом. Вдруг он появился перед ней, словно вырос из-под земли.
– Вы с кем-то разговаривали, миссис Хорн? – спросил он.
Господи, неужели она уже до такой степени невменяема, что говорит сама с собой, как безумная?… И Кармен это заметила.
– Нет, ни с кем.
– Значит, мне почудилось, – сказал монах.
От рассеянности он светил своим фонариком ей в лицо. Фани обратила внимание монаха на его неловкость, направив сильный сноп лучей своего фонарика прямо ему в очки. Он замигал беспомощно и наконец отвел свет.
– Наверное, вас обманул слух!
– Да, вероятно! – подтвердил он со своей обычной наивностью. – Все мы очень устали. Мы с братом Гонсало дежурим третью ночь подряд.
– Есть ли смысл в этом дежурстве?
– Никакого, – сказал он, – кроме нравственного.
– Оставьте нравственность!.. Самое скверное – делать бессмысленные вещи и чувствовать себя нравственным.
– Мне кажется, вы правы, сеньора, – сказал он по-испански и глубоко вздохнул. – Вы кого-нибудь ищете?
– Да, вас!.. Мюрье заболел сыпным тифом.
– Каррамба!
Близорукие глаза Оливареса испуганно замигали. Значит, болезнь не щадит и самих врачей, которые, казалось бы, знают, как беречься! До сих пор оп не волновался, потому что, ничуть не полагаясь на провидение, рассчитывал на ежедневное вываривание своей одежды. Он пообещал пойти утром в городок и поискать комнату.
– Успокойтесь!.. И ложитесь поскорей.
– Я не могу спать, – сказала Фани.
– От трупного запаха?
– Нет. От нервов.
– А я смертельно хочу спать.
– Тогда я вас сменю.
– О, как вы добры, сеньора!.. Но отец Эредиа приказал, чтобы дежурили только мужчины.
– Не важно, что приказал Эредиа. Оливарес посмотрел на нее удивленно.
– Я должен выполнять его приказания, – сказал он. – Таблетка люминала, наверное, поможет вам заснуть.
– Нет. Мне ничто не поможет. Куда вы идете?
– В свою палатку, взять нюхательного табаку. Если хотите, пойдите в столовую. Я велел брату Гонсало разжечь примус и приготовить чай.
Она подумала: «Я побуду там, пока Эредиа не выйдет от Мюрье». Потом у нее мелькнула мысль о Доминго. Если состояние Мюрье станет ухудшаться, можно будет обратиться к нему. Мюрье не раз говорил ей, что как врач Доминго сильнее Эредиа.
– Хорошо. Я буду ждать вас в столовой, – пообещала Фани Оливаресу. – Но где Доминго?
– Молится в часовне.
– Он что, спятил? – взорвалась Фани. – Вот уже два Дня, как он не вылезает оттуда.
– Неужели вы ничего не знаете? – таинственно спросил Оливарес.
– Черт возьми! Нет!
Оливарес доверительно наклонился к ее уху н зашептал:
– Брата Доминго наказал Эредиа постом и молитвой за то, что он читал запрещенные книги.
– Какие книги? – изумленно спросила Фани.
– Революционные книги, сеньора!.. Коммунистические издания.
«Скоро меня здесь ничто не удивит», – подумала Фани.
– А вы разве не читаете Гегеля? – спросила она с живостью. – На его книгах цензор не сделал для вас пометки «Nihil obstat».[51]
Профессор схоластики посмотрел на нее оскорбленно.
– Бог с вами, сеньора… Я могу читать все, что хочу. Я изучаю Гегеля, чтобы предохранять студентов от увлечения диалектикой.
– Но иногда вы читаете его так… для собственного удовольствия… не правда ли?
– Никогда!.. Неужели я мог бы поддаться этой ереси?…
И профессор схоластики затрусил в темноте к своей палатке, чтобы взять нюхательный табак.
Фани направилась к часовне. Часовня находилась рядом с палаткой, куда складывали мертвецов до отпевания, поэтому трупный запах был здесь невыносимым. Дверь в часовню была закрыта. Фани приоткрыла ее и направила свет фонарика внутрь. Она увидела коленопреклоненную фигуру брата Доминго, который демонстративно громко читал латинские молитвы. Монах не обернулся.
– Брат!.. – сказала она.
Доминго тотчас с облегчением поднялся.
– Ах… Это вы, сеньора?… А я подумал, что кто-нибудь из наших нетопырей.
Фани рассмеялась. Нетопыри!.. Он называл святых отцов, свое духовное начальство нетопырями!
– А что случилось? – быстро спросила она.

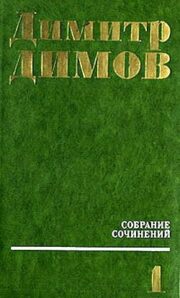
"Осужденные души" отзывы
Отзывы читателей о книге "Осужденные души". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Осужденные души" друзьям в соцсетях.