Вне сцены Энтони становится совершенно другим. «Вне сцены» — значит, там, где нет публики, которую можно соблазнять, ни одного незнакомого человека, ни репортеров, ни даже водопроводчика, а только те, хотелось бы верить, доверенные лица, которые знают его по-настоящему. На самом деле никакие они не доверенные, и никто из них — из нас — его по-настоящему не знает. Сходя со сцены, Энтони захлопывается, как задернутая кулиса. Правда, иногда на него вдруг накатывает, и он неожиданно, без всяких видимых причин и личной выгоды делается веселым и обаятельным. Но в основном за успешным покорением сразу наступает равнодушие. Энтони уходит в себя, запаковывается в раковину, огрызается на все попытки сближения и делается дерганым. Погруженный в свои мысли, сосредоточенный, он копит силы для следующего концерта, альбома или тренировки. Так, по крайней мере, подсказывали мне мои наблюдения, а наблюдений у меня, за неимением других занятий, было хоть отбавляй.
Энтони — звезда, крупная и яркая. Он всегда Энтони и никогда Тони, ни при каких обстоятельствах. Он талантливый композитор, непревзойденный исполнитель, пианист, хотя может в принципе играть на чем угодно, и поет он тоже отлично. Многогранный талант. Отсюда и харизма — каким еще быть человеку, наделенному помимо необыкновенного дара еще и внешней привлекательностью. Он начинал с классики, но ослепительная красота и обаяние (а еще первый брак с популярной, хотя и слегка тронувшейся умом кинозвездой) привели его в смежную область. Получив заказы по знакомству, через жену, он написал музыку к нескольким кинофильмам — артхаусным, но успешным, в основном зарубежным. В одном из них он даже снялся, в конце концов, и стал — кем? Любимцем публики, наверное. Похоже на синдром Ричарда Бартона: большой талант разменивается на пустяки, но не угасает. Энтони обрел громкую международную славу, он играл не в камерных концертных залах, а на больших площадках, стал модным и слегка авангардным, однако с классической музыкальной карьерой пришлось распрощаться.
При всей своей эмоциональной непредсказуемости Энтони ненавидит одиночество. Он любит, чтобы кто-то, я например, сидел и дожидался где-то, куда можно позвонить с дороги или из гримерки, пожаловаться на других или, под более радостное настроение, построить совместные планы, которым обычно не суждено сбыться. Планы ему нравятся больше, чем осуществление. Осуществление — это скучно. Это рамки, они сковывают.
Растущее одиночество в нашем осуществившемся браке привело меня к выводу, что основополагающие принципы в нем такие: из близости рождается презрение, а нежность пробуждается разлукой. Отсутствующий, Энтони делался куда приятнее. Но так было не всегда.
Энтони светловолосый, с темными глазами — небанальное сочетание, а я темная, со светлыми глазами, не голубыми, правда, а зелено-карими. Практически противоположности, как позитив и негатив. И это не единственное наше противоречие. Подозреваю, что отчасти в моей тяге к Энтони надо винить возврат к традициям его блестящих предков.
Фредерик Кассой, его отец, обольстительный красавец, был признанным и довольно известным адвокатом по гражданским делам, первым по учебе на своем курсе в Гарвардской школе права. Я лично его никогда не видела, но, по рассказам, он тоже был нарциссом и любимцем женщин, наплодившим кучу не обихоженных детей, которых бросил на бывших жен-невротичек. Первая жена, мать Энтони, была типичной сельской красоткой со Среднего Запада, итальянских кровей, дочерью богатого промышленника, задушившего запертую в глуши дочь своей чрезмерной опекой. Тем не менее, муж казался Кристине принцем, а дети — королевскими отпрысками, особенно одаренный Энтони. В детстве он был неуправляем, школу прогулял почти полностью, баловался наркотиками, а Джульярд[2] годы спустя закончил только благодаря таланту.
Энтони воспитывали в преклонении перед родителем, и он действительно боготворил отца. Хотел стать таким же или, по крайней мере, обрести тот же ореол славы, которым наделяли отца семейные предания. Вот только к Гарварду подступиться не удавалось, пока — оп-ля! — на пути не возникла я, гарвардская выпускница, с плеядой умных, талантливых, веселых однокашников — самая подходящая кандидатура, чтобы исправить промашку в виде первого брака. Ему оставалось только проглотить меня живьем. Не такой уж ошибкой был его первый брак — он прибавил Энтони славы и подарил дочь. За мной таких достижений не числится.
А я? Тоже из спивающейся семьи, но обитающей чуть дальше по побережью, в Балтиморе. Тоже незаурядная, тоже талантливая, однако рядом с показной яркостью уживаются, к моему несчастью, скептический настрой и склонность к замкнутости. В юности я стремилась на сцену, часами инсценировала «Оклахому», «Карусель» и все остальные мюзиклы из родительской коллекции, хотя петь не умела. Стала актрисой, завоевала успех, но внимания публики стеснялась и в общительную актерскую тусовку не влилась — всему виной, разумеется, замкнутость. Благодаря которой, я к тому времени получила ученую степень по английской литературе. И эти две непонятно как уживающиеся личности обе влюбились в блестящего, доброго, остроумного, саморазрушительного гения, необыкновенно самобытного писателя, еще одну гарвардскую звезду, который, написав один прогремевший роман, умер в тридцать три от несчастного случая в походе.
Мы с Энтони встретились на вечеринке в Нью-Йорке, когда Нильс еще был жив, но на эту писательско-актерскую тусовку с разнокалиберными знаменитостями не пришел. Энтони, то ли подшофе, то ли под кайфом, пустился со мной заигрывать. Хотел увести меня с вечеринки, я отказалась. Однако была польщена и, как все прочие, очарована.
Потом мы встретились снова на Лонг-Айленде, в Хэмптонах, уже после несчастного случая с Нильсом и расставания Энтони с Натали. Нам обоим было худо, поэтому мы кинулись друг другу в объятия. Потом поехали в его коттедж, зажгли друидский огонь, священное пламя в ознаменование начала новой жизни. Ночь мы провели вместе, а за ней и все последующие. Нам обоим казалось, как всегда бывает при первом приступе страсти и любви, что мы созданы друг для друга, что мы обретаем друг в друге спасение. Через полгода мы поженились, и я растворилась в муже.
Дороги, дорога, дороги. Город за городом, чемоданы, паспорта, поезда, самолеты, автобусы, лимузины, отели, концертные площадки, скандирующие толпы зрителей. У нас не было настоящего дома, если не считать моей нью-йоркской квартирки. Да и зачем, если есть совершенство гостиничных номеров, дарящих заколдованное уединение. Мы купались в экзотике и блаженстве, паря над обыденностью. Ничто было не властно над нами.
Кроме времени. Вскоре мы почувствовали прикосновение его леденящей длани. Эйфория рано или поздно теряет накал, но как-то надеешься, что она сменится дружбой. Опять это слово. Энтони исполнилось сорок два, он помешался на своей внешности. Принялся истязать себя тренировками, бросил пить, есть, развлекаться. Переродился. Отдалился. Я все чаще и чаще оставалась одна, и дома, и в поездках, а он тешил свою новую страсть. Меня терзало одиночество и унизительное ощущение, что жизнь проходит впустую. Натали неотступно преследовала нас по всему миру телефонными звонками, ругаясь на Энтони за то, что он совсем забросил Лидди. То есть на самом деле ее саму, Натали. Я мрачнела, чувствуя себя такой же заброшенной, и постепенно убедилась, что делиться своими переживаниями с Энтони бесполезно, на нем и так слишком много висит. Так прошло пять лет. Пытаясь поговорить о наших отношениях, спасти, как принято говорить, наш брак, я чувствовала себя побирушкой. Или фанаткой. Кем-то, от кого отмахиваются.
Не знаю, сколько я пролежала на кровати. Успела заказать бутылку белого вина в номер и раздеться. Сквозь ставни сочился узкими полосками сумеречный свет. Но внизу, на улице, прямо под моей кельей, кто-то играл на аккордеоне! Мелодия плыла над водой. Как все-таки живописна Венеция!
Толкнув створки, я приоткрыла окно еще на полдюйма, но дальше ставни не пускали, и я ничего не разглядела. Какой все-таки восторг — серенада! Что же это за песня? Такая знакомая… И тут я вдруг вспомнила. Невидимый менестрель под окном тешил мой слух западающими в сердце переливами «Perfidia»[3], которую так любил исполнять Хавьер Кугат, чьи пластинки я заигрывала в детстве до дыр. Такая пронзительная, такая печальная… «О тебе стонет моя душа, perfidia, стонет моя душа, perfidia, вероломство победило, прощай!» Лет в семь-восемь я исполняла эту песню, вкладывая в нее весь пыл своей души. Нет, это чья-то шутка, это невозможно. Розыгрыш в духе Нильса с его абсолютным чувством абсурда. Неужели это он там за окном перебирает клавиши небесного аккордеона?
Засмеявшись, я села на жесткой узкой постели. Вот что значит оставаться в буквальном смысле в темноте и неведении. И тут меня захлестнуло — весь этот непонятный день, моя непонятная жизнь, вино, песня, все вместе, непонятная полутемная комнатушка, — и я разразилась отчаянным плачем, как перепуганная девчонка.
Полосы света поменяли направление. Меня против воли потащило на поверхность, и тайны глубин отступили перед грубым вторжением яви, заставившей тело и мысли осознать, что я лежу на узкой кровати в непонятной темной каморке. Недосмотренный сон улетучился, ускользая от пристального взгляда, точно рыба, уходящая на глубину. Мне всегда жаль недосмотренного сна. Его тающие клочья еще тут, рядом, но я уже выброшена из обволакивающего уюта и как будто осиротела. Меня выкидывает в обездоленный мир. Что же там такого утешительного, в этом ином пространстве?
Я не привыкла полагаться на действительность. Она кажется мне выхолощенной по сравнению с изобилием, которое дарит подсознание. Конечно, дневные заботы смягчают утрату, а несчастное эго остается один на один со своими злоключениями. Выбрасываешь из головы и маршируешь дальше под грузом планов и обязательств. А я из тех, кто только и ждет, чтобы забыться сном. Лечь, закрыть глаза — непреодолимое эротическое желание. Счастье еще, что от опиатов, которые я попробовала с Энтони, мне делается плохо.

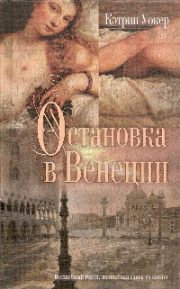
"Остановка в Венеции" отзывы
Отзывы читателей о книге "Остановка в Венеции". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Остановка в Венеции" друзьям в соцсетях.