Но вот однажды я заметил, что ушёл слишком далеко. Попытавшись вернуться в то пространство, где меня всегда ожидало прошлое, я с удивлением обнаружил, что не могу найти дорогу туда. Время обмануло. Оно побежало с такой скоростью, что я не заметил его и ушёл слишком далеко. Возврата нет…
Первые стоки «Эона памяти» я написал более десяти лет назад и за четыре месяца завершил повесть. Всё возникало передо мной – живое, объёмное, настоящее, болезненное. Я успел записать главное. Затем стал добавлять кое-что, так как происходили новые события, которые развязывали некоторые узлы прошлого. Сегодня я не смог бы вспомнить того, что было тогда, потому что сегодня во мне нет ничего из тех дней. Они ушли, я ушёл… Значит, я успел сделать кое-что, хотя бы самую малость – оставить искренний рассказ о былом тем людям, кому это может зачем-то понадобиться.
Каждый человек обязан быть свидетелем времени, каждый обязан искренне делиться своей жизнью с окружающим миром, чтобы мир мог понять нас, а мы могли понять мир.
Я много раз пытался поставить точку в этих воспоминаниях, но никак не мог подобрать подходящих слов. И вот я нашёл нужное, перечитывая «Жизнь Арсеньева». Слова и чувства Ивана Бунина удивительным образом совпали с моими, поэтому я ставлю их сюда и тем самым подвожу окончательный итог задуманным воспоминаниям о жизнелюбивом Юрвасе: «Когда я вспоминаю отца, всегда чувствую раскаяние – всё кажется, что недостаточно ценил и любил его. Всякий раз чувствую вину, что слишком мало знаю его жизнь, особенно молодость – слишком мало заботился узнавать её, когда можно было! И всё стараюсь и не могу понять полностью, что он был за человек, – человек совсем особого века и особого племени, удивительный какой-то разнообразной талантливостью всей своей натуры, живого сердца и быстрого ума, всё понимавших, всё схватывавших с одного намёка, соединявший в себе душевную прямоту и душевную сокровенность, наружную простоту характера и внутреннюю сложность его, трезвую зоркость глаза и певчую романтичность сердца»…
Апрель-август 2001
Декабрь 2011
ПРО ЛЮБУ УРИЦКУЮ
С Любой Урицкой меня познакомил Александр Шеко, а его привела откуда-то моя тёща, которая обладала талантом знакомиться с необыкновенными людьми, которые в свою очередь знакомили нас ещё с кем-то…
Если начинать распутывать клубок человек-человек-кто-когда-откуда, то обнаруживаются тысячи любопытных картин и жизнь открывается в таком неожиданном виде, в таких деталях, что сравнить её можно только со сложнейшей агентурной сетью, созданной не спецслужбами, а неведомыми человеку силами. Мы все играем в жизни друг друга важную роль, но никто не знает наверняка, какая роль ему отведена. Иногда мы просто приходим и рассказываем что-то, а наш слушатель (может, даже невольный, случайный) из всего разговора вычленяет одну-единственную фразу, и эта фраза постепенно совершает переворот в его сознании. А мы просто говорили, просто делились впечатлениями о чём-то незначительном…
Мы были молоды – моя жена и я – и смотрели на мир ненасытными глазами. Советская идеология ограничивает не меньше и не больше, чем любая другая жёсткая система, структурирующая нравственные и моральные догмы, и нам хотелось заглянуть за пределы этих границ. Картины Александра Шеко легко сорвали засовы с запертых ворот общепринятой живописи и впустили нас в пространство абсолютно свободного изобразительного искусства. Рассказывая о своём творческом пути, Саша знакомил нас с друзьями. Не мог он не познакомить нас и с бывшей своей женой.
Несколько раз он упоминал в разговорах тот день, когда увидел Любу впервые, и всякий раз в его голосе звучали удивление и восторг. Он работал на «Мосфильме» художником-декоратором и по делам зашёл однажды в фотоцех. Там на стене висел женский портрет – вытянутое лицо, глубокие большие глаза, длинные распущенные волосы. Странная фотография, чуть искажённая широкоугольным объективом. «Кто это сделал? Кто фотографировал?» – воскликнул Шеко, и через несколько секунд из дверей выскочила на его голос Люба Урицкая. «Это Зойка, её фотографировала я», – крикнула она.
Трудно говорить о внешности женщины, когда в ней нет ничего от привычного понятия «красота». И трудно понять, что может привлечь внимание молодого мужчины к женщине, у которой непропорционально сложена фигура, очень короткая шея, длинное лицо с тонкими губами и огромными глазищами… Впрочем, в ту минуту зародились отношения не мужчины и женщины, а двух гениев, хотя один гений обитал в мужской оболочке, а другой нашёл пристанище в женской. Словом, две эти души нашли друг друга.
Когда Саша повёл нас к Любе, мы не догадывались, кого и что предстояло увидеть. Мы вошли в старый дом, приткнувшийся окнами к соседнему дому. Вошли в старую квартиру. Увидели Любу – живую, маленькую, громкоголосую, с цепкими глазами. Она провела нас в белую комнату, где на одной стене висели синие картины Шеко, а на противоположной красовались большие чёрно-белые работы Любы. В соседней комнатке, служившей когда-то, видимо, кладовкой, спал грудной ребёнок.
– Можно говорить громко, мы ей не мешаем, – успокоила Люба.
Фотографии меня ошеломили – жёсткие, контрастные, почти без полутонов. Любой профессионал «классической школы» раскритиковал бы их в пух и прах, обвинив в пересветке и всяких иных огрехах. На самом деле в них не было брака, они были ясные, тонкие, детальные. Чернота была их сутью. Белизна – их оживляющим инструментом.
Потом на стол легли коробки и конверты с фотографиями меньшего формата. Мы смотрели, перебирали их, иногда я подносил их близко-близко к глазам, чтобы понять, как они сделаны, и Люба начинала смеяться: «Кто же так фотографии смотрит!», но я-то знал, что мне нужно именно так, а не иначе, потому что я разгадывал секрет. Но не разгадал.
– Ну что? – спросила Люба нетерпеливо, не слыша от нас отзывов.
– А разве можно что-то сказать? – растерялись мы, потому что впечатление от её работ было таким огромным, что оно лишило нас дара речи. – Надо переварить.
– Ну переваривайте, – и Люба принесла чай.
Они жили бедно, роскоши не знали никогда. Их питало творчество. О другом они и не думали. Сначала всё шло хорошо, но потом наметилось расслоение их совместного внутреннего мира. Конкретнее не могу сказать. Они разошлись, но остались друзьями. Саша перебрался к маме, Люба осталась в этой квартире, наполненной духом былого.
На одной из фотографий, висевших у Любы на стене, был запечатлён Элем Климов, режиссёр непростой судьбы, но мне известный в то время лишь по картинам «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещён» и «Спорт, спорт, спорт», которые я в силу обстоятельств знал почти наизусть и мог цитировать с любого места. Эта фотография (где он скрестил руки на груди) очень известна и в последнее время её бессовестно используют в документальных фильмах, даже не упоминая имени Урицкой. Также почти редко упоминается Люба, когда публикуется известнейший снимок Елены Соловей, растиражированный в картине Михалкова «Раба любви». В действительности фотография сделана в качестве фотопробы Соловей для фильма Рустама Хамдамова.
В Любиной коробке с фотографиями хранились несколько фотоснимков со съёмок запрещённого к показу фильма «Агония» про Гришку Распутина: потрясающие по силе кадры, где императрица припала головой к бронзовой спинке кровати и портрет Распутина-Петренко. Кстати, сама Люба мелькнула на экране в сцене гуляния в ресторане, она сидела на полу среди цыган.
Личность Распутина меня в то время сильно интересовала, особенно после публикации журнальной версии романа Валентина Пикуля «У последней черты». Исходя из рассказов Любы, я был уверен, что «Агония» показала последние дни Распутина почти документально. Да и про сцены бани с голыми бабами много был наслышан. Мог ли я предполагать, что буду однажды не только здороваться с Элемом Германовичем за руку, но сидеть в его кабинете на «Мосфильме», а он будет уговаривать меня сниматься в его фильме?
Дело было так. После долгого простоя Климов запустился с фильмом «Иди и смотри». Люба, увидев мою жену, решила, что столь красивая девушка не имеет права оставаться вне поля зрения кинокамеры, повела нас к Элему Климову. То был мой первый визит на «Мосфильм» и первое соприкосновение с настоящим кинорежиссёром. Обстановка в его кабинете была спокойная, почти умиротворяющая. Ни я, ни моя жена ничуть не нервничали, поскольку не претендовали ни на какую роль и вообще не собирались сниматься. Климов неторопливо рассказывал о будущем фильме, и было приятно слушать его. У него был красивый голос. А потом Ю вдруг задала ему вопрос: «Вы любите вестерны?» Он улыбнулся и ответил: «Нет, я люблю остерны». И посмотрел на меня. «Не хотите сняться у меня, Андрей? Не хотите попробовать себя в кино?» Я решительно отказался, довольно нагло заявив, что готов попробовать себя в качестве оператора. «Нет, оператор у меня есть», – покачал головой Элем Германович.
В то время я бредил вестернами и мастерил своё собственное кино – со стрельбой, драками и откровенными любовными сценами. Я видел себя кем-то вроде Клинта Иствуда – с небритым подбородком и с небрежно зажатым в зубах огрызком потухшей сигары. Понятно, что выныривать из мира шляп и револьверов ради фильма о белорусских партизанах мне не хотелось. «Вы всё-таки подумайте», – мягко настаивал Климов, и я обещал подумать, хотя твёрдо знал, что сниматься не стану. Сегодня я даже не представляю, почему он предложил мне пробоваться, потому что на главную роль я никак не подходил (если исходить из того, что он взял Кравченко), а Климов говорил со мной о главной роли. Когда мы собрались уходить, ассистент по актёрам просила подождать немного. Через пару минут она вышла и сказала Ю, что Климов хочет её на роль немки. О какой немке шла речь, мы не понимали. Ю не хотела играть, но Климов уговорил её сделать фотопробы. Вот тогда мы впервые попали в фотоцех, где Люба познакомилась с Сашей Шеко.

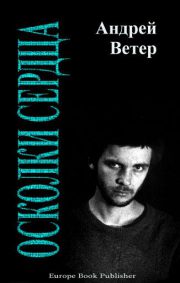
"Осколки сердца" отзывы
Отзывы читателей о книге "Осколки сердца". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Осколки сердца" друзьям в соцсетях.