Гейб говорил совершенно спокойно, без злости, и только горечь нет-нет да проглядывала в его взгляде.
— Кроме всего прочего, отец был не прочь смухлевать, передернуть, смошенничать. Он был довольно ловок, и по большей части такие штучки сходили ему с рук, но я помню несколько случаев, когда моя мать с трудом наскребала необходимую сумму, чтобы расплатиться с его партнерами, которые иначе переломали бы ему пальцы. Она любила его…
Гейб подумал, что это-то как раз и было самой горькой пилюлей, которую ему пришлось проглотить.
— Многие женщины любили Рика Слейтера…
Он занялся пиццей, словно пытаясь доказать себе, что все это больше не имеет для него значения.
— … А он любил причинять им боль. Многие женщины уходили и возвращались только для того, чтобы еще раз получить кулаком в лицо. И самое странное, что они гордились своими разбитыми губами и черными кругами под глазами так, словно это были медали или какие-то другие знаки отличия. Моя мать была как раз из таких. Если я пытался помешать отцу, он начинал лупцевать нас обоих, а мать ни разу не поблагодарила меня. Она только повторяла, что я ничего не понимаю… И она была совершенно права, — неожиданно прибавил Гейб. — Я до сих пор этого не понимаю.
— Неужели ты не мог никуда пойти? Найти какое-нибудь убежище, обратиться в социальные службы, в полицию, наконец…
Гейб только взглянул на совершенные черты породистого, аристократического лица Келси и подумал о ее безупречном воспитании, въевшемся в плоть и кровь.
— Некоторых людей обязательно заносит в самые грязные и темные углы, Келси. Иначе не может быть. Так работает система.
— Но так не должно быть. Это… это неправильно.
— Чтобы получить помощь, нужно верить в нее, искать, обивать пороги и иметь достаточно мужества, чтобы просить о ней. Моя мать ничего этого не сделала бы. Большую часть времени она смотрела в землю, ничего не ждала, ничего не просила.
Теперь уже Келси смотрела на него, не отрываясь, и в ее взгляде смешались сожаление и ужас.
— Но ты же был ребенком! Кто-то же должен был… что-нибудь предпринять.
— Я бы такого человека не поблагодарил. Меня с детства приучили плевать при . виде копа и думать о социальных работниках как о бездельниках, которые только перебирают ненужные бумажки, суют свой нос куда не следует и мешают тебе поступать так, как тебе хочется. Поэтому я старался избегать и тех, и других. Иногда я ходил в школу, иногда — нет. Господь свидетель: отцу это было безразлично, а у матери просто не хватало сил, чтобы заставить меня учиться как следует. По большей части я был предоставлен самому себе и, естественно, делал то, что мне было больше по душе. Старику нравилось, когда я болтался где-нибудь поблизости от него: я либо поставлял ему клиентов, либо сам затевал какую-то игру. Зато пока я был подле папаши, я мог следить за тем, чтобы он, напившись, не спустил последние гроши. Ему тогда становилось все равно, а нам с матерью нужно было как-то жить.
— Ты мог попытаться уйти от него, убежать.
— Конечно, я думал об этом, и не раз. Просто мне казалось, что тогда он забьет мать до смерти. Короче, я остался, но никакой пользы никому из нас от этого все равно не было. Мать умерла от воспаления легких в муниципальной больнице для бедняков, фактически — в приюте. После ее смерти я шесть месяцев копил деньги, пряча от отца все, что мне удавалось заработать на ипподроме — игрой или собственным трудом. В конце концов я сбежал. Тогда мне было тринадцать.
Он замолчал, вспоминая. Для своих лет он был довольно рослым и себе на уме. И почти старик, если считать по пережитому.
— Папаша несколько раз ловил меня, — словно нехотя продолжил Гейб после продолжительной паузы. — Мне уже тогда нравились лошади, поэтому меня тянуло на ипподром. Он тоже постоянно ошивался возле дорожки. В таких условиях встречи были неизбежны, и каждая такая встреча заканчивалась одинаково. Он колотил меня, а потом начинал вымогать деньги. Обычно мне удавалось откупиться…
— Откупиться?
— Если мне везло, то кое-какие деньжата у меня водились. С парой сотен долларов отец бросался играть на скачках или заваливался в ближайший кабак. — Гейб подумал, что с тех пор цены существенно возросли. — И каждый раз, когда мне удавалось от него избавиться, я начинал все сначала, начинал с одной лишь мыслью в голове: когда-нибудь у меня будет все, и он не посмеет тронуть меня даже пальцем. Ни он и никто другой… Почему ты не ешь?
— Мне очень жаль, Гейб… — Она схватила его за руку и крепко сжала. — Честное слово.
Нет, не жалости искал Гейб. Только теперь ему стало ясно, чего он добивался, рассказывая все это. Он ждал, что Келен ужаснется, что она отвернется от него с отвращением и страхом. В этом случае у него появился бы предлог отступиться от нее и прекратить безумную погоню за будущим, которого он не мог предвидеть.
— В свое время я отбывал срок, — продолжил он. — Из-за покера. Я сел играть и не заметил, что это была хитро расставленная ловушка…
Он немного помолчал, ожидая, как она отреагирует, но Келси не проронила ни слова.
— Я был мелкой сошкой, но загребли меня вместе с крупной рыбой. Выйдя на свободу, я стал умнее. Несколько раз я смошенничал в карты, но игра нравилась мне больше, чем жульничество. Работая на конюшнях при ипподроме, всегда можно было заработать, чтобы сделать ставку, а лошади… Лошади — это лошади. Впрочем, об этом я, кажется, уже говорил. Да и в тюрьме мне настолько не понравилось, что я решил больше туда не попадать. Самое главное, что сберегло мне немало денег, это то, что я не пил, а не пил я потому, что каждый раз, когда я подносил к губам стакан, я чувствовал ненавистный отцовский запах. Ну и конечно, мне везло.
Закончив рассказ, Гейб откинулся на спинку стула и раскурил сигару.
— Ну что, теперь тебе все понятно?
Неужели он в самом деле думает, что я не вижу его гнева, его боли, которая все еще тлеет под застарелыми шрамами, думала Келси. Люди, проходящие мимо их столика, увидели бы перед собой только мужчину, который оживленно беседует со своей подружкой и наслаждается приятным вечером. И все же даже посторонний человек, который удосужился бы заглянуть ему в глаза, увидел бы там гнев — холодный, беспощадный.
Решительным движением Келси взяла его за руку.
— Возможно, я не способна понять всего, что ты хотел мне сказать, — проговорила она. — И все-таки мне кажется, что я смогу представить себе, какой это кошмар — жизнь с алкоголиком, который…
— Он не алкоголик, — перебил Гейб ледяным тоном. — Существует определенная разница между алкоголиком и пьяницей, Келси. Никакая программа социальной реабилитации не изменит ни его, ни того факта, что он — просто мерзкий пьянчуга, которому доставляет удовольствие избивать женщин и всех, кто слабее его. И потом, это был вовсе не кошмар, это была жизнь. Моя жизнь.
Келси убрала руку.
— Тебе бы хотелось, чтобы я не поняла.
Гейб повертел в руках сигару и в конце концов пристально уставился на ее тлеющий кончик. Он и представить себе не мог, что это ее простое, молчаливое сочувствие вызовет к жизни столько горьких воспоминаний и чувств, которые так долго спали в глубине его души, и вот, разбуженные, закружились в неистовом, сумасшедшем водовороте.
— Ты права. Я бы предпочел, чтобы ты смотрела на меня и принимала меня таким, как есть. Или бросила это дело.
— Мы оба стали такими, какими нас воспитали, Гейб. Так или иначе, я впредь не собираюсь питать к кому-либо какие-то чувства просто потому, что эти люди кажутся мне такими или сякими. И если я тебе нужна, тебе придется смириться с тем, что я буду стараться разобраться в тебе.
Гейб потушил сигару.
— Это похоже на ультиматум.
— Это и есть ультиматум. — Келси оттолкнула тарелку и сняла со спинки стула жакет. — Идем, нам еще долго добираться домой. Лучше выехать пораньше.
Да, ей предстояло хорошенько подумать о маленьком мальчике, которому с самого детства пришлось самому пробивать себе дорогу в жизни. О мальчике, который, ложась спать, слышал вместо колыбельных возню проституток за стеной и крики пьяного отца.
Сколько от этого мальчика осталось во взрослом мужчине, она не знала. Келси казалось, что намного больше, чем думал сам Гейб. Гораздо больше, чем он позволил бы кому-нибудь разглядеть.
Скорее всего, размышляла она, с тех пор Гейб просто сменил тогу. Непринужденные манеры, потрясающий дом на холме, собственная конюшня, полная призовых чемпионов, — все это маска, которая в первую очередь бросается в глаза. Любопытно, сколько человек из тех, кто принадлежит к высшему кругу коневладельцев, знает правду о его происхождении? А зная, рассматривает историю жизни Гейба просто как еще одно проявление его эксцентричности?
Да, Келси начинала понимать Гейба, как бы ему ни хотелось противоположного. И видел он это или нет, но все это было ей небезразлично.
Был почти час ночи, когда Билл Канингем услышал, как кто-то стучится в парадную дверь. Завернувшись в китайский халат из тонкого красного шелка, который еле-еле сходился на его объемистом животе, он поспешил к выходу. Заглянув в глазок, он порадовался, что Марла — его последнее увлечение, спит крепко и вряд ли проснется. Канингему нравилось считать, что главной причиной того, что она засыпает как убитая, является бурный секс, однако скорее всего дело было в легких транквилизаторах, которые Марла глотала пригоршнями.
Так или иначе, Канингем был рад, что, кроме него, никто больше не увидит этого позднего и нежданного гостя.
— Я же сказал тебе: никогда сюда не приходи! — прошипел Канингем, приглаживая редкий пух на голове. После дерби — вернее, после победы на дерби — он собирался сделать себе пересадку волос.
— Ну-ну, Билли-бой, не волнуйся, никто меня т видел.
Судя по всему, Рик Слейтер уже прошел большую половину своего обычного марафона, однако он ж качался да и слова выговаривал сравнительно отчетливо. Опьянение проявлялось только в неестественном блеске глаз.

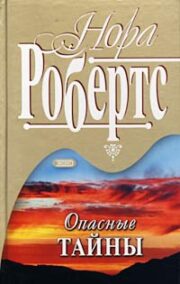
"Опасные тайны" отзывы
Отзывы читателей о книге "Опасные тайны". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Опасные тайны" друзьям в соцсетях.