— Я должна что-то сообщить тебе, дочка, — сказала миссис Чейз.
Джорджи еще раз оттолкнулась ногой, и они с матерью так и сидели бок о бок, покачиваясь взад-вперед.
— Мне кажется, — сказала миссис Чейз, — тебе нравится ходить со мной и с папой в гости к соседям. В прошлое воскресенье я видела, как вы весело болтали с Фрэнсисом, спускаясь к пруду.
У промышленника Фрэнсиса Нейлора была большая усадьба в миле от Чейзов.
— Это потому, что он взял меня за руку.
Джейн Чейз переменила тему.
— Я и папа, — сказала она, — любили друг друга и всегда будем любить. Но знаешь, Джорджи, двум людям непросто прожить вместе всю жизнь. Когда раньше люди жили не так долго, было по-другому. Но в наши дни — ты знаешь об этом от многих своих друзей — после двадцати лет жизни пары часто замечают, что больше не так уже хороши друг для друга.
— Но вы с папой не такие. И вы хороши для меня, — сказала Джорджи.
— Я знаю, дорогая. И ты у нас чудесная дочка! Но если бы мы с папой продолжали жить вместе, мы бы ссорились, и ты уже не считала бы нас такими хорошими. Мы с папой решили разойтись. Ничего страшного. Просто теперь у тебя будет два дома, а не один. Многие люди отдали бы все, чтобы иметь два дома.
— Но я не хочу два дома, — сказала Джорджи.
Шея ее затекла, да и спина побаливала. Качели останавливались. Джорджи вдруг показалось, что, если она сумеет опять оттолкнуться и привести качели в движение, все опять пойдет по-старому, и боль в спине тоже прекратится. Она оттолкнулась. Они с матерью снова раскачивались туда-сюда.
— Что ж, Джорджи, мы с твоим папой решили, что лучше будет пожить отдельно. Мы с тобой переедем к Фрэнсису. Но вы с папой можете ходить друг к другу в гости сколько захотите.
Вскоре после свадьбы Джейн и Фрэнсис Нейлор решили переехать в Лондон. Фрэнсис был назначен исполнительным директором английского филиала своей фирмы. Три недели перед отъездом Джорджи прожила на ферме с отцом.
Пришло время прощаться, глаза Джорджа Чейза наполнились слезами, и когда они покатились по его лицу, он отвернулся. Джорджи не плакала.
— Порядок, пап, ма говорит, что я могу приезжать на ферму на каникулы. И мы можем писать друг другу.
Произнося эти слова, Джорджи вдруг ощутила внутри себя странное чувство, которое собственно нельзя было назвать чувством. Оно было скорее похоже на отсутствие всяких чувств. Джорджи подумала о пустом пространстве под верандой, но и это сравнение не помогло ей разобраться в себе. Она почувствовала так, словно внутри ее была дыра. Это ощущение она никогда раньше не испытывала.
Через полгода после того, как началась лондонская жизнь Джорджи в симпатичном доме близ Уимблдонского национального парка, она сидела в комнате и писала письмо отцу, когда зашла ее мать. Джейн обняла Джорджи.
— Я должна что-то сказать тебе, дорогая. Вчера умер твой отец. У него был рак. Ему повезло, что болезнь не затянулась, как это часто бывает. Он не страдал.
Джорджи не заплакала. Она сидела неподвижно. Он ушел. Именно так. И даже не попрощался. Она так никогда и не узнает, страдал он или нет. Она так никогда и не сможет объяснить ему, как сильно она его любила. Боль была такой чудовищной, что Джорджи оттолкнула ее от себя. Но внутри она опять чувствовала дыру.
Фрэнсис Нейлор был довольно милым отчимом. Они с Джейн были заядлыми бриджистами, и это наряду с богатством Нейлора и его деловыми связями обеспечило им доступ в элитарное лондонское общество. Им довольно скоро предложили стать членами престижного бридж-клуба. Когда Фрэнсис Нейлор был выдвинут в члены Реформ-Клуба, ни один член Комитета не пытался его забаллотировать, что могло бы случиться с англичанином.
Как и английские дети, с которыми она была теперь знакома, Джорджи чаще видела домоправительницу, с которой занимала соседние комнаты, чем свою мать. Когда ей исполнилось одиннадцать, ее отдали в пансион. Разлуку с домом Джорджи особенно не переживала. Все остальные девочки тоже были оторваны от семей. В первую неделю некоторые девочки плакали по ночам, но Джорджи особой тоски по дому не чувствовала. У нее появилось много новых друзей. Она была умна. На нее приятно было посмотреть — стройная, кровь с молоком (унаследовала цвет кожи матери), карие глаза, которые при определенном освещении становились золотистыми и контрастировали с темными, почти черными, волосами, унаследованными от отца, ниспадавшими длинными волнами. Вскоре после своего двенадцатого дня рождения Джорджи отрезала семь-восемь дюймов своих волос ножницами для бумаги. На висках остался только коротенький прямой ежик. Джорджи видела в воскресном приложении черно-белую фотографию Луиса Брукса, и ей понравилась длинная челка и короткие виски. Ей не давался затылок, но другая девочка подстригла его неровной зубчатой линией. Наставница решила, что лучшим выходом из этой ситуации будет послать ее к хорошему парикмахеру, который подровнял челку и виски, а сзади постриг волосы так, что красивая шея стала выглядеть очень соблазнительно.
Джорджи было чуждо чувство соперничества. Ее забавляла та яростная вражда, которую начинали испытывать гости-мужчины во время сельского уик-энда по поводу крикета. Ее вообще не волновало, выиграет она или проиграет в крикет. Но если она чем-то действительно интересовалась — учебными предметами, гимнастикой, теннисом, — то уж в этом она хотела быть лучшей.
— Мы нисколько не удивились, когда Джорджи получила Оксфордскую стипендию, — писала наставница матери Джорджи.
Первое, что заметила Джорджи в Оксфорде, это то, что соревнование было жестче во всех отношениях. Ей приходилось тратить больше усилий, тогда как остальные в основном зубрили и записывали. К светской жизни это относилось в еще большей степени, чем к учебе. У нее были подружки, были поклонники. Она была веселой и своеобразной девушкой. Хотя Джорджи и нравилась студенческая жизнь, но если ничего другого не оставалось, она вполне довольствовалась своим собственным обществом и любила почитать или помечтать.
Несколько раз она влюблялась. Но ее влюбленности всегда проходили на фоне какого-то эмоционального равнодушия. Она не жалела об этом: это оберегало от страданий. Но это также вело к тому, что Джорджи научилась смотреть на людей механически: если они ее разочаровывали, она их выключала.
Один из соискателей был очень подходящей партией.
— Я знаю, знаю, — говорила Джорджи Пэтси Фосетт (вскоре после встречи в Оксфорде они стали лучшими подругами). — Он устроит мою мать на все сто процентов. Но единственное, чего он хочет на самом деле, это чтобы я была прежде всего и только женой. Когда он говорит, что не будет возражать против моей карьеры, он сам не верит тому, что говорит. Так что нам лучше расстаться.
Джорджи мечтала сделать такую карьеру, которая позволила бы ей управлять собственным экипажем, и она догадывалась, что блеск ее карьеры будет ярче по ту сторону Атлантики, возможно, в Нью-Йорке. Она хотела быть журналисткой. Ей всегда нравилась Британия. Здесь был большой выбор газет и цветных иллюстрированных журналов. Но журналистика в Британии была профессией мужчин. Лучшее, на что могла рассчитывать женщина, — это место в отделе сбора информации. Время для женщины-редактора даже развлекательного журнала еще не пришло.
Идеальным местом для карьеры ей казался Нью-Йорк. Вот уж где был поистине огромный выбор журналов! Больше всего Джорджи хотелось быть редактором иллюстрированного еженедельника, так чтобы вся политика редакции была целиком и полностью в ее руках — в отношении властей, в отношении прессы, литературная, социальная, денежная политика, политика в отношении моды и любая другая политика, которую еще можно было вообразить.
— Хочу быть тем, кто дергает за ниточки, заставляя марионеток плясать, — говорила она Пэтси Фосетт.
Со дня смерти отца Джорджи ничто уже больше не связывало с Америкой, она задумывалась о возвращении туда только из-за карьеры. Она никогда не скучала по Небраске. Если и вставал перед ней когда-нибудь образ фермы, где прошло ее детство, то он всегда напоминал скорее картинку в рамочке, моментальный снимок из далекого прошлого.
Подруга Джорджи, Пэтси Фосетт, росла окруженная любовью обоих родителей, чего Джорджи не знала со времен раннего детства. Отец Пэтси был секретарем Королевского суда. К девочке относились как к сокровищу, особенно после того, как выяснилось, что миссис Фосетт не сможет больше иметь детей.
Всякий раз, если коллеги спрашивали судью Фосетта, когда он собирается отправить свою дочь в пансион, судья отвечал:
— Нам с женой никогда не нравился этот странный английский обычай — отсылать от себя детей. И мы не собираемся распространять его на своего единственного ребенка.
Пэтси ходила в элитарную лондонскую дневную школу, расположенную в двадцати минутах езды на автобусе от дома Фосеттов в Кенсингтоне. Антония, как ее тогда звали, преуспевала и в учебе, и в спорте. Однако после того, как ей исполнилось тринадцать, в доме Фосеттов разразилась буря. Судья Фосетт всю жизнь отчетливо помнил этот день. Вся семья сидела за тиковым столом на балконе и поедала воскресный ленч. Солнечный свет, проникавший сквозь ветви дуба, нависавшие над балконом, играл в медовых волосах Антонии, превращая их в золотые. Тут-то все и началось. Антония объявила родителям, что с этого дня она откликается только на имя Пэтси. Родители переглянулись.
— Но Антония — такое красивое имя, дорогая, — произнесла наконец миссис Фосетт.
— Оно не идет мне.
Продолжать явно требовалось с осторожностью.
— Если ты хочешь сменить имя, — терпеливо начал судья, — не лучше ли как следует поразмыслить, прежде чем принять окончательное решение? Американцы обычно называют словом «пэтси» дурачка, которого все обманывают.
— Мне все равно, — ответила девочка. — За дурочку меня никто не посмеет принять.

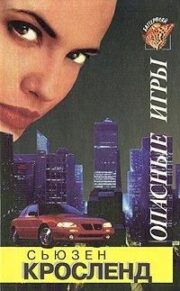
"Опасные игры" отзывы
Отзывы читателей о книге "Опасные игры". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Опасные игры" друзьям в соцсетях.