Она посоветовала молодым людям выбрать шоколадный торт, сама упаковала его, а когда до Голландца вновь донеслось звяканье колокольчика, он был уже в половине квартала от кондитерской.
Выбор. Что за чепуха? У него нет выбора. Как всегда, он просто сделает то, чего нельзя не делать.
Когда подали кофе, Эрик Шаджи Шидзуми закурил сигарету. Это был плохой знак. Эрик был поджарым мужчиной, с острыми чертами лица, слегка отпущенными, тронутыми сединой красивыми черными волосами и пронзительными черными глазами. Этот демонический красавец был закоренелым холостяком. Он родился в Сан-Франциско, но как настоящий сэнсэй представлял третье поколение японских американцев. Его самые ранние воспоминания касались концентрационного лагеря в Вайоминге. Эту тему он не обсуждал никогда и не разрешал упоминать об этом в программках. Шаджи мог бы уже десять раз жениться, если бы не фортепиано, которому принадлежала его душа и в котором заключалась его жизнь, и — как утверждали некоторые — если бы не Джулиана Фолл. До нее доходили подобные слухи, но она никогда не придавала им значения. Она знала Шаджи так же хорошо, как он знал ее, и если их что-то и связывало в течение двадцати лет, то только не секс и не любовь. Их отношения были изменчивыми и непонятными. Они по-своему дорожили друг другом, но ни один из них ни разу не выказал склонности к браку — ни друг с другом, ни с кем-либо еще. Формально Шаджи уже не был ее учителем, но о ней по-прежнему писали как о его единственной студентке, и она продолжала прислушиваться к его советам. Она все еще нуждалась в его одобрении. Он, как никто другой, понимал, что такое бремя международной славы для артиста. И одиночество, необходимое для людей его профессии, не тяготило его так, как часто тяготило Джулиану. Шаджи был согласен часами сидеть за фортепиано — будто в мире существовали только он и его дело, — день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Джулиана же не могла отказаться, когда подворачивалась возможность побыть среди людей, и Шаджи не одобрял этого.
Он потушил спичку и бросил ее в пепельницу, выпуская клубы зловонного дыма.
— Джулиана, — сказал он, — нам нужно поговорить.
Сердце ее забилось. Он узнал про Д. Д.! Но это невозможно. Шаджи ни за что не согласился бы обедать с ней, если бы ему стало известно, что сегодня днем в одном из клубов Сохо она играла Моуза Эллисона. Он бы набросился на нее с ножом для бифштекса.
— О чем? — спросила она.
— О том, что с тобой происходит.
— Со мной? Я только что вернулась из отвратительного турне по Европе, а в субботу вечером играю свой сотый в этом году концерт в Линкольн-центре. Вот что со мной происходит.
Шаджи держал сигарету в уголке рта, не затягиваясь. Они сидели в маленьком итальянском ресторанчике совсем рядом с Бродвеем в верхней части Вестсайда. Он не отличался роскошью, и если бы кто-нибудь из обедающей братии вдруг распознал в этой парочке всемирно известных музыкантов, Шаджи с Джулианой просто пришлось бы уйти. Джулиана пила крепкий кофе, надеясь, что он нейтрализует действие вина и поможет справиться с ощущаемой по возвращении из Европы разницей во времени. Дома ей еще предстояло просмотреть концерт Бетховена, который она будет играть через два дня.
— А после концерта? — спросил Шаджи. — Что потом?
— Съезжу в Вермонт на недельку-другую и устрою себе каникулы. Я их заслужила. Потом вернусь и следующие несколько месяцев буду работать и записываться. До весны концертов не намечается. Этот год у меня такой насыщенный. Но все это ты знаешь. Шаджи, о чем ты спрашиваешь?
— Не езди в Вермонт, — сказал он.
— Что?
— Ты слышала меня. Не езди.
— Шаджи, мне нужно отдохнуть. Черт возьми, я заслужила отдых!
— Тебе нужно работать.
— Я работаю постоянно. Я колесила четыре месяца и…
— Настоящее наслаждение пианист получает за инструментом, а не на концертной сцене. Джулиана, последние несколько лет ты выступаешь очень много, убийственно много. Я знаю. Ты даешь сотни концертов в год. И ты знаешь, что я одобряю твое решение свернуть выступления. Но я не хочу, чтобы ты уезжала в Вермонт, по крайней мере сейчас. Ты должна вновь испытать наслаждение работы за инструментом и сделать это как можно скорее.
— О, Господи! Шаджи, ведь я собираюсь уехать всего на неделю.
Шаджи глубоко затянулся, несколько секунд удерживая дым, и выдохнул. Джулиана закашлялась и глотнула немного кофе, но он ничего не замечал. Он как обычно целиком ушел в свои мысли. «Если бы мы поженились, — подумала она, — то это продолжалось бы не больше двух недель.»
— Пианист не проводит каникулы там, где нет инструмента, — сказал он.
Мерзавец, подумала Джулиана, но сдержалась. У нее был маленький старый домик на берегу Баттэнкилл-ривер, в юго-западной части Вермонта, и зимой ей нравилось смотреть на огонь, пылающий в камине. Она предвкушала, как будет сидеть у огня, набросив на колени стеганое одеяло, читать, и не вспоминать о музыке. Это правда, в Вермонте не было инструмента. Она не привезла туда даже проигрыватель. Единственное, что у нее было, это тишина.
— Шаджи, — осторожно заговорила она, сдерживая раздражение. — Я не ты. Мне необходимо отдохнуть некоторое время, и я уеду.
— Это будет ошибкой.
— С чего вдруг поездка в Вермонт станет ошибкой? Будто я еду туда в первый раз.
— Я был в Копенгагене, Джулиана.
— Дерьмо.
— Да.
Ее выступление в Копенгагене нельзя было назвать выдающимся. Оно было откровенно рядовым. Но в разговоре с Шаджи не сошлешься на неудачный вечер, и Джулиана знала, что оправдываться бесполезно.
— Да, играла я отвратительно, — согласилась она. — Но тут уж ничего изменить нельзя, даже если я откажусь от Вермонта. И какого дьявола ты шпионишь за мной на концертах? Тебе больше нечего делать?
— Я был и в Париже.
— А, ну тогда ты должен понять, что Копенгаген был просто случайностью.
В Париже ей устроили бурную овацию и засыпали восторженными откликами — вполне заслуженными. Но Шаджи грустно покачал головой, сминая в пепельнице сигарету.
— Меня не интересует то, что лежит на поверхности. Мне интересно, что происходит внутри.
Подобного рода вещи он говорил постоянно, и это бесило ее.
— Я кое-что слышал в Копенгагене, да и в Париже. Вот, пожалуйста, «неудачный» вечер и «удачный» вечер, если тебе так угодно. В твоей игре не было непринужденности, но появилась, как мне кажется, какая-то непредсказуемость. Никто другой, разумеется, ее не заметит до поры до времени. Но если ты будешь давать ей выход, это скоро услышат все. Сдерживайся. Контролируй себя. Постарайся понять, что это такое, и используй это в своих интересах. Единственное место, где ты сможешь это сделать, — твоя рабочая комната и инструмент.
«Кое-что», расслышанное им, было не что иное как Д. Д. Пеппер, незаметно прокравшаяся в ее игру, но именно этого Джулиана и не хотела обсуждать с Эриком Шаджи Шидзуми.
— Хорошо. Я займусь этим после Вермонта.
— Ты трусишь, Джулиана.
— Вовсе нет.
Он буравил ее своими черными глазами.
— Ты не боишься сгореть?
— Нет.
— А я боялся, в тридцать лет. Ты этого не помнишь. Ты тогда была еще ребенком и понятия не имела о подобных вещах. Несмотря на все аплодисменты, книги, пластинки, я тогда задумывался, удержусь ли на плаву, когда мне стукнет тридцать пять. Бесчисленное количество молодых пианистов — все равно что бабочки-однодневки, порхают, блистают несколько лет, а затем уходят, и — пуфф!
— Но я не собираюсь уйти и сделать «пуфф», я просто хочу поехать в Вермонт.
— Лишь Богу известно, к кому повернется непостоянная публика, которая все время выискивает новые звезды. Конкурсы выбрасывают на свет божий пианистов все более и более юных. Бремя бытия исполнителя огромно. Ты так беззащитен, так уязвим. И в тридцать лет вдруг обнаруживаешь, что вся новизна куда-то ушла. Ты заработал кучу денег и должен решать, хочешь ли ты и дальше тянуть эту лямку или нет.
— Я никогда и подумать не могла о том, что перестану играть.
— Не могла?
Неясная полуулыбка тронула его губы, он знал, что она лжет. Конечно, она лгала. И в последнее время больше, чем когда-либо в жизни. Но она не могла рассказать Шаджи о том, что по утрам, лежа в постели, размышляет, как сложится ее жизнь, если она откажется от фортепиано, если бросит играть. Что она тогда будет делать? Что она умеет? Она не могла объяснить, как по мере продолжения турне чувствовала себя все более и более опустошенной; не могла говорить о посещавших ее фантазиях, в которых она, исполняя сонату Моцарта, вдруг вклинивала в нее джазовую импровизацию, о своих утомительных спорах с менеджером, желавшим, чтобы она и дальше давала по сто концертов в год и одновременно расширяла репертуар и делала еще больше записей. Она не могла поведать ему о той скуке, которую навевали на нее репортеры, непрерывные путешествия, великосветские обеды, мужчины, встречавшиеся ей. Она не могла признаться, что все это с каждым днем кажется ей все более тоскливым и что она боится, как бы монотонность не проникла в ее рабочую комнату, где прежде ей не было места. Д. Д. слегка скрасила однообразие ее жизни, но она не вечна. И Шаджи нельзя было рассказывать о Д. Д.
Он был прав. Она боялась. Но за девятнадцать лет она ни разу не признала вслух его правоту. Они спорили, боролись, обсуждали, но она никогда не сдавалась, не позволяла себе отступить перед его легендарным авторитетом. Если это случится, думала Джулиана, то она потеряет свою независимость как музыкант и как человек.
— Меня не беспокоит, как остаться на плаву в тридцать пять, и я не боюсь.
Она резко отодвинула свой кофе и поднялась, чувствуя одновременно такую усталость, и страх, и бешенство, что у нее все поплыло перед глазами. Какого черта Шаджи не может оставить ее в покое! Зачем ему нужно все время давить на нее?

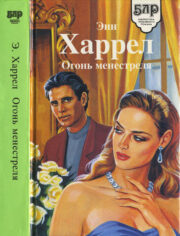
"Огонь Менестреля" отзывы
Отзывы читателей о книге "Огонь Менестреля". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Огонь Менестреля" друзьям в соцсетях.