Сэм Райдер, который к тому времени уже вернулся домой, во Флориду, надеялся, что они погибнут.
Он наполнил бокал виски и отогнал воспоминания. Он научился хорошо справляться с неприятными воспоминаниями. Он забудет о Старке с Пронырой и отделается от Филиппа Блоха. Неважно, знает Мэтью что-нибудь или нет, все равно он ничего не сможет доказать, а значит, писать ему не о чем. Он обязан будет все хорошенько проверить, прежде чем публиковать что-то о Сэме Райдере, — раз уж их связывают такие отношения, без доказательств ему никто не поверит. И не хочет же Старк, чтобы его обвинили в желании отомстить.
Все обойдется. Единственное, что сейчас действительно нужно Райдеру, это чтобы Блох получил Камень Менестреля. Тогда он наконец угомонится и оставит Сэма в покое.
Блох должен получить Менестреля.
А как он достанет его? Но ты же назвал ему всех Пеперкэмпов. Он найдет их. Он найдет Джулиану.
— Джулиана.
Он едва слышно выдохнул это имя. Ну почему он никак не перестанет думать о ней? Нельзя впутывать ее в эту историю; она не имеет отношения к Менестрелю. У Блоха нет причин беспокоить девушку.
Если только он не считает, что камень находится у нее. Он не успокоится до тех пор, пока лично не убедится, что у нее нет алмаза. Пока не убедится, что его нет ни у кого из Пеперкэмпов, в том числе и у Джулианы.
Райдер глубоко вздохнул, залпом опрокинул в рот остатки виски и медленно проглотил. Остается надеяться только, что Блох сначала проверит мать и тетку и кто-нибудь из них выведет его на Менестреля.
И вообще, Райдер не обязан отвечать за действия Блоха.
Он налил себе еще виски и, прихватив с собой бокал, отправился в постель.
Глава 18
Катарина тяжело опустила пластмассовое ведро на тротуар перед своей кондитерской. Прямо на тапочки выплеснулась горячая мыльная вода, но она не обратила на это внимания. Было очень рано — едва рассвело — и холодно. Она бросила щетку в ведро и опустилась на колени. От этой процедуры, которая превратилась в настоящий ритуал, ее плотные вельветовые брюки на коленях изрядно потерлись. Старая, если не сказать архаичная, голландская привычка. Адриан с Джулианой подшучивали над Катариной и говорили, что тротуар перед ее кондитерской единственное чистое место во всем Нью-Йорке. Ее дважды пытались даже привлечь к ответственности за столь странную инициативу. И все же Катарина была убеждена, что чистый тротуар помогает бизнесу. Пусть ее старания и не приносят денег сами по себе. Зато в Нью-Йорке никогда, кроме как ранним утром, не бывает так тихо. И у нее есть возможность спокойно поразмышлять. Помечтать. Вспомнить.
Но сегодня на улице было холодно, она работала быстро и неистово, стараясь не думать, не мечтать, не вспоминать.
Рахель… Сенатор Райдер… Джулиана… Вильгельмина… Джоханнес. Бог мой! Что же происходит в этом мире?
Опять…
Несмотря на собачий холод и ранний час, когда только воры и молочники отправляются на работу, он уже стоял на своем месте на другой стороне улицы и смотрел на нее, ничуть не смущаясь тем, что она его видит. Это был молодой человек с приятным, смуглым лицом, среднего роста, одетый так, чтобы нисколько не выделяться на благопристойном фоне общего достатка, царившем в этом районе. Сегодня на нем были вельветовые брюки и мерлушковая куртка. Он выглядел усталым и продрогшим, и ей вдруг пришла в голову сумасшедшая мысль подойти и пригласить его на чашку кофе. Но она вспомнила, какими юными и невинными порой казались нацисты и люди из «Зеленой Полиции», и остановила себя.
Сзади послышался смешок — мягкий и такой знакомый, что она замерла. Ей подумалось, что это игра воображения. Именно этот смех слышался ей, когда она мечтала или вспоминала дни юности, — столь короткой и столь далекой — каждое мгновение которой запечатлелось в памяти, и чем отчетливее, тем более сладостно-горьким оно было.
Хендрик…
Но смех раздался снова. Катарина, опустив щетку в ведро, обернулась. Она тут же принялась поправлять русые, тронутые сединой, волосы, пыталась убрать выбившиеся, пряди за уши, забыв о тяжелых резиновых перчатках, что были на руках. От холода у нее покраснел нос. Она взглянула в теплые голубые глаза Хендрика де Гира, и годы прожитой жизни как будто растаяли. Она не замечала ни глубоких морщин, ни отметин времени на его лице. Перед ней снова стоял решительный, смелый, молодой мужчина — каким он был когда-то. По крайней мере, для нее.
— Все-таки ты поразительная чистюля, — сейчас он говорил по-английски, — даже для голландки.
— Это у меня от матери. — Ее голос был хриплым и неестественным от напряжения и нахлынувшей грусти. То была грусть по несостоявшемуся прошлому. Она тоже говорила на английском. Этот язык вернул ее к настоящему.
— Ты же помнишь, мать все силы отдавала работе в Сопротивлении и всегда была очень занята. Я была младшей, но дом держался на мне. У меня поначалу не получалось вести хозяйство, но мать относилась ко мне очень требовательно, и я быстро всему научилась. Если она обнаруживала на рубашке непришитую пуговицу, то отрывала остальные, и мне приходилось начинать все сначала.
Хендрик опять засмеялся, и на этот раз она заметила морщины вокруг его глаз.
— Она всегда напоминала мне Вильгельмину, — сказал он.
Вильгельмина. Да, она всегда походила на мать. Обе были упрямыми, прямолинейными и скрытными, но по-своему любили ее. Реалистки. Так они называли себя. Может, это и было правдой. Они первыми поняли, что из себя представляет Хендрик.
Наваждение ушло, Катарина поднялась на ноги. Хендрик де Гир никогда не был ни решительным, ни смелым, а ее юность канула в прошлое. Она пошатнулась. Рядом был Хендрик, как будто вышедший из воспоминаний. Ноги затекли от долгой работы на коленках, а ведь она совсем не молодая. С того самого дня, когда она увидела его в Линкольн-центре, Катарина знала, что в конце концов он придет к ней. Может быть, даже ждала этого.
Хендрик подхватил ее под локоть и помог подняться. Она стояла рядом с ним на широкой, пустынной Медисон-авеню, и порывистый ветер трепал их волосы. У Катарины закружилась голова, и вдруг, без всякой причины, она вспомнила о булочках с корицей, которые собиралась испечь сегодня — у нее был старинный и очень хороший рецепт. Интересно, удастся ли ей когда-нибудь воспользоваться им?
— Что ты здесь делаешь? — тихо спросила она.
Он улыбнулся, задержав руку на ее локте. Сквозь старый, плотный рыбацкий свитер она чувствовала прикосновение его пальцев. Он всегда был очень крепким. И таким сильным. Даже сейчас, когда жизнь его клонилась к закату, в сомнительной кепке и какой-то нелепой куртке горохового цвета, он казался красивым и очень надежным. Если бы только она не знала его лучше.
Он сказал:
— Мне хотелось увидеть тебя.
— Да. — Она смотрела в сторону, в пустоту. — Рахель…
— Мне очень жаль, что ее не стало.
— Ты ведь знал, что она выдвигает обвинения против тебя.
Он кивнул, хотя Катарина и не ждала от него согласия.
— Рахель хотела отомстить мне, Катарина.
— Нет, Хендрик. — Она отодвинулась, и его рука неловко осталась висеть в воздухе. — Она хотела, чтобы свершилось правосудие.
Казалось, его больно ударили эти слова.
— Тогда, в Амстердаме, я должен был сделать это, чтобы спасти тебя…
— Чтобы спастись самому! Ты считаешь, я должна разделить с тобой эту вину, Хендрик? Но я не хочу.
И все-таки она постоянно ощущала ее.
— Катарина, тогда было очень сложное время. — Он говорил с ней, как с ребенком. — И что сделано, то сделано. Прошлое уже ушло.
— Нет, не ушло. Ни для кого из нас. И не уйдет никогда, Хендрик. — Ее глаза сверкали, и в них не было прощения. — Это ты убил Рахель?
— Нет! — Он ужаснулся так, словно никогда не слышал ничего более страшного. — Нет, Катарина! Я не смог бы сделать этого.
— Даже чтобы спасти себя? — спросила она с презрением. Но тут ее вдруг охватила усталость — и печаль. — Ох, Хендрик, прошу тебя — уходи. Исчезни. Зачем ты появился?
Он покачал головой.
— Я уже пытался исчезнуть. И разум говорит мне о том же, но сердце подсказывает обратное. Катарина, люди, с которыми я имею дело, узнали про Камень Менестреля. Они хотят получить его и не остановятся ни перед чем. Поверь мне, моя дорогая, я хорошо знаю этих мерзавцев. — Он помолчал, его глаза светились нежностью, какой трудно было ожидать от человека, за плечами которого была такая неприкаянная, суровая жизнь. — Я хочу уберечь тебя. Позволь мне сделать это. А потом я постараюсь убедить их, что Менестреля не существует.
Катарина отчаянно заморгала, пытаясь справиться со слезами, но они все-таки хлынули из глаз, высыхая на холодном ветру. Она хотела вытереть их, но вспомнила о перчатках и, сняв их, уронила на тротуар. Руки страшно дрожали. Боже мой, подумала она, ну когда же они перестанут? Ей казалось, они дрожат с того самого дня, когда после сорокалетней разлуки в ее кондитерской появилась Рахель.
Камень Менестреля… Будь он проклят!
— Нет, — наконец сдавленно прошептала она. — Ты хочешь спасти меня и заставить страдать других. Я не допущу этого!
— Я могу уберечь всех.
— Ну да, как ты сделал в Амстердаме.
Она чуть не рыдала, но все-таки слова ее были пропитаны сарказмом.
— Катарина, выслушай меня. Я обещаю тебе — ни с тобой, ни с твоей дочерью, ни с Вильгельминой ничего не случится.
— А как же Джоханнес? Ведь это ты повез его в Амстердам? Да? Ты вымогал у него этот проклятый алмаз. Ох, Хендрик, Хендрик! Ты никогда не изменишься!
— У него было больное сердце. И я ничем не мог помочь. — Он взял ее руки в свои и стиснул их. Она удивилась тому, какими теплыми оказались его ладони. — Почему ты не веришь мне?

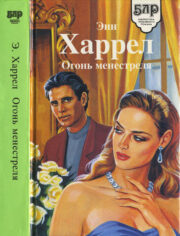
"Огонь Менестреля" отзывы
Отзывы читателей о книге "Огонь Менестреля". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Огонь Менестреля" друзьям в соцсетях.