— Не стоит так критиковать при мне мою мать.
— Я не критикую, я говорю правду. — Она смотрела мимо Джулианы, в окно. — Если хочешь, рассказывай.
— Я хочу, тетя Вилли. Но почему вам обязательно нужно все усложнять? Хотя, ладно. Скажу вам сразу, я знаю совсем немного, но уже то, что мне известно, приводит меня в замешательство.
— Давай-ка по порядку, — велела тетка.
Джулиана, вздохнув, начала свой рассказ с того момента, когда застала в кондитерской матери Рахель Штайн, потом рассказала обо всем, последовавшем за этим, не упомянув лишь, что она знает о Камне Менестреля, знает, где он, знает его легенду и его тайну. Тетя Вилли выслушала, ни разу не перебив, а когда Джулиана закончила, старуха откинулась на спинку и закрыла глаза. Джулиана впервые обратила внимание на высохшее, изборожденное морщинами, бледное теткино лицо.
— Боюсь, что для Джоханнеса это добром не кончится, — сказала она наконец. — А Мэтью Старк не говорил тебе, откуда ему известно о существовании Джоханнеса?
— Нет, — ответила Джулиана, почувствовав, как ее сердце сжалось от страха за дядю. Она всегда с волнением вспоминала этого мягкого, интеллигентного старика. Она не задумываясь избавилась бы от Менестреля сейчас, если бы это могло помочь дяде — или кому-то другому. Но он предостерегал ее тогда, семь лет назад, от этого соблазна. Он велел ей хранить тайну Менестреля и никогда — никогда! — не использовать ее, если она не знает точно, откуда ей угрожает опасность. «Ты не должна думать только о последствиях своего бездействия, — сказал он, — Подумай также о последствиях своих действий. Подумай о людях, с которыми тебе придется иметь дело. Как они поведут себя, если узнают, что камень у тебя, если завладеют им? Стоит ли одна спасенная жизнь нескольких погубленных?»
Резонные вопросы. А тогда они показались ей слишком надуманными.
— Тетя Вилли, вы знаете что-нибудь? Что происходит? Кто такой Хендрик де Гир? Как он связан со всем этим?
Когда Вильгельмина наконец открыла глаза, взгляд их был гневным.
— Я не могу точно сказать, что происходит, но что касается Хендрика де Гира… Да, я знаю его. Это дьявол.
— В каком смысле? Откуда вы его знаете? А мама…
— Твоя мать тоже знает его. И Рахель знала. Мы все знали. Он был нашим другом до войны и во время войны.
— Но вы только что сказали…
— Да, сказала. Хендрик предал нашу дружбу. Но до тех пор, пока я не поговорю с твоей матерью, я не скажу тебе о нем больше ни слова. Только одно — ты должна остерегаться его, Джулиана.
— Тетя, так нечестно.
Вильгельмина пожала плечами; ее мало тронуло это обвинение.
— А Рахель Штайн? Как вы познакомились с ней?
— Ах, Рахель. — Взгляд Вильгельмины смягчился, она вздохнула. Джулиана почувствовала ее печаль и — гнев. — Не могу смириться с тем, что на долю Рахель выпало столько страданий. Этому нет оправдания. Нет. Она была очень хорошим человеком, Джулиана, — моя любимица, такая смешная, но такая надежная подруга. А кроме того, из всех людей, которых я когда-либо знала, она была самой интеллигентной. Видела бы ты ее до войны! О, какой огонь пылал в ее глазах! Она с братом жила у меня во время оккупации. Они были евреями, так что нам приходилось вести себя очень осторожно.
— Вы прятали их?
Тетя Вилли важно качнула головой, но в этом жесте не было ни удовлетворения, ни гордости.
— А я и понятия не имела! Мать ничего не рассказывала мне.
— А почему нужно рассказывать об этом? Многие прятали евреев. Многие, но не все. И десятки тысяч евреев погибли. Их согнали, как скот, и вывезли; они умирали от голода, их мучили, расстреливали, травили газом. Я спасла двоих. Двух очень дорогих, очень важных для меня людей, но только двух.
— Тем не менее.
— Это не оправдание. Мне нечем хвастать.
Джулиана пыталась представить, какими были сорок лет назад ее тетка, Рахель Штайн, мать, через что пришлось пройти этим женщинам в юности. Тогда они были моложе ее. Отважилась бы она скрывать евреев от нацистов? Ей хотелось думать, что да. Но она надеялась, что ей никогда не придется проверить это. Такое, подумала она, не должно повториться.
— Штайны, должно быть, были очень благодарны вам, тетя Вилли, — сказала она.
— В каком-то смысле да, конечно, но все не так просто, — спокойно сказала Вильгельмина. — Они стали изгоями, Джулиана, их преследовали только за то, что они евреи, а я, только потому что не была еврейкой, оказалась выше их, и они зависели от нас — от меня, твоей матери, дяди, наших родителей. Мы могли помочь им, но мы же могли их уничтожить.
— Но вы выбрали первое.
— Выбрала? Я бы так не сказала. У меня никогда не возникало вопроса, что я должна делать. Это как вставать по утрам. Ты просто просыпаешься. И не ждешь, что тебе скажут за это спасибо.
Джулиана кивнула. Ее душила ярость — мать ни разу словом не обмолвилась ни о чем подобном. От чего она хотела оградить свою дочь? Но сейчас не время думать об этом.
— Как вы считаете, Рахель Штайн и ее брат хотели бы отплатить вам за то добро, что вы им сделали?
Тетя Вилли посмотрела на нее с неподдельным изумлением.
— За что? Они ничего не должны мне. И никогда не были чем-то обязаны. Я слишком во многом обманула их ожидания.
— Не понимаю…
— И надеюсь, что не поймешь этого никогда, Джулиана. Никто из нас тогда не распоряжался своей судьбой, а они тем более. Рахель и ее родные — не единственные, кому мы старались помочь. Были еще отказники — мужчины самого разного возраста, от восемнадцати до пятидесяти, — их сгоняли в трудовые лагеря. Onderduikers — так мы их называли.
— Что это значит?
— Это люди, которые скрываются. Onderduik означает «лечь на дно». В Нидерландах нет дремучих лесов или пещер, а территория страны очень небольшая. И нам приходилось прятать людей в своих домах, на чердаках и в подвалах, и очень часто — прямо под носом у немцев. Но Штайны дольше всех прожили у нас. Почти пять лет мы жили бок о бок, постоянно дрожа от страха. Нам редко хватало еды и тепла. Временами мы действовали друг другу на нервы. Это естественно. Из таких ситуаций можно вынести как благодарность, так и обиды. — Она тяжело вздохнула. — Что-то я разболталась. Твоей матери я быстро надоела бы.
Джулиана помолчала. Она гордилась теткой и была изумлена услышанным, восхищалась ее мужеством, но решила, что, сказав ей об этом, лишь вызовет ее недовольство.
— А мама жила тогда вместе с вами?
— О себе она может рассказать сама.
— Но Рахель Штайн приехала в Нью-Йорк, чтобы повидаться с ней.
— Да, верно.
— Тетя Вилли, вы прекрасно знаете, что мать ни черта не расскажет мне.
Вильгельмина фыркнула.
— Подбирай выражения.
— Я имею право знать.
— Да?
— Ладно. — Джулиана вздохнула, понимая, что опять проиграла тетке. Она не хотела тратить время на бессмысленные препирательства. — В газетах писали, что Рахель Штайн после войны переехала в Нью-Йорк. Почему?
— Они с братом Абрахамом уехали, потому что не могли оставаться здесь. Люди их круга и нации, их семья и друзья, все погибли, да и страна была в руинах. Мы страдали от голода. Нидерланды были освобождены только весной 1945 года, почти через год после Франции и Бельгии. Осенью 1944-го войска союзников попытались овладеть Арнхеймом. Была разработана операция, в результате которой предполагалось создать коридор в южной части страны вплоть до Германии, взять под контроль три основные реки и изолировать немецкие войска, оккупировавшие Нидерланды. И тогда союзники смогли бы прорваться в Германию. Если бы этот план удался, то война закончилась бы значительно раньше.
— Но он не удался, — полуутвердительно сказала Джулиана. Ее сведения об истории Второй мировой войны были скудными.
— Нет, — медленно проговорила Вильгельмина. — Он не удался. Немцы в ответ еще сильнее закрутили гайки. Доставка продуктов на запад страны сократилась, так как не было нефти и угля и транспортировка стала практически невозможной. Говорят, что в день мы получали меньше пятисот калорий, необходимых для выживания, — а ведь ещё были onderduikers, которых тоже нужно было кормить. Твоя мать единственная, кому удавалось приготовить что-то вкусное из кормовой свеклы и луковиц тюльпанов. Это была ужасная, страшная зима. Тогда ее назвали Hungerwinter. То есть, Голодная зима.
Джулиана молчала. Что она могла сказать? Мать никогда не рассказывала об этих страданиях. Никогда.
— В любом случае, — продолжала тетя Вилли, — у Рахель и Абрахама здесь ничего не осталось. Они предпочли эмигрировать в Америку, и мы разлучились навсегда. Так случается. — Вильгельмина, уйдя в прошлое, некоторое время молчала, но быстро оправилась и достала из пакета печенье, шесть штук, завернутые в вощеную бумагу. — На, съешь. Кстати, ты заметила, что нас преследуют?
Джулиана резко повернулась, но тетка схватила ее за локоть и не дала оглянуться. Джулиана кивнула ей, показывая, что владеет собой, и с сомнением прошептала:
— Вы уверены?
— Еще бы. — Вильгельмина сказала это очень просто без всякого высокомерия, и отпустила руку племянницы. — Я пять лет прожила в городе, оккупированном немцами, я знаю, что такое слегка, и не люблю ее. Нацисты слишком часто практиковали это. И теперь я не выношу, даже когда сзади меня тащатся дети, живущие по соседству.
В другой ситуации Джулиана сочла бы, что у тетки мания преследования. Но только не сейчас. Она помнила о Мэтью Старке, о его странном визите в «Аквэриан», после которого она так и не смогла взять себя в руки и рванула в Роттердам.
Нарочито спокойным голосом она спросила:
— Как он выглядит?
— Как нацист.
Старая голландка сжала губы.
— Бога ради! Тетя Вилли, что вы говорите!

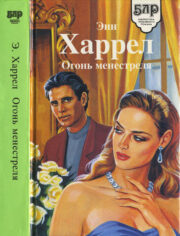
"Огонь Менестреля" отзывы
Отзывы читателей о книге "Огонь Менестреля". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Огонь Менестреля" друзьям в соцсетях.