У ворот стояла стража: огромные, черные как смоль нубийцы в одеяниях царских слуг. Они не понимали по-египетски или делали вид, что не понимают. Ей объяснили, что она может идти, но только если один из них пойдет с нею. Конечно, только ради ее собственной безопасности.
Ворча, Нофрет вынуждена была вернуться. В саду, по крайней мере, не было вооруженных людей, а стены были слишком высоки, чтобы лезть через них. Прежде она не замечала, насколько мал сад, насколько ограничены его пределы.
Нофрет не слишком удивилась, обнаружив, что она здесь не одна. В саду Иоханан уже не так нервничал, но все же был слишком взволнован, чтобы сесть. Он стоял в тени гранатового дерева, разглядывая ветви, может быть, высматривая спелый плод среди зеленых.
— Еще рано, — сказала она ему.
Иоханан взглянул на нее, холодно, как посторонний человек. Он тоже умел дуться, негодяй.
— Может быть, уже поздно…
— О чем ты?
— Поздно бороться за свободу нашего народа.
— По-моему, им вообще не стоило приходить в Египет.
— У них не оставалось выбора. Была засуха, голод. Наши пастбища опустели. В Египте же было зерно для наших стад, а в его реке достаточно воды, чтобы сохранить наши жизни. И здесь жил наш родич, человек, которого египтяне называли Юйи, попавший в Египет рабом и бывший родней царю. Он предложил нам убежище.
Иоханан рассказывал так, будто сам жил в то время. Но все это происходило задолго до его появления на свет: он родился в Египте, приходился родней царям, но вынужден был работать, чтобы прокормиться.
— Мы не были рабами, — говорил он. — Мы задолжали царю, это верно, но обязались выплатить долг. Мы никогда не принадлежали ему.
— Тогда как же ваши люди дошли до этого?
Иоханан плюхнулся под гранатовое дерево. На мгновение она увидела не высокого величественного мужчину с первой проседью в бороде, а длинноногого мальчишку, каким он был когда-то. Он говорил словно сам себе:
— Мы плодовитый народ. Даже в изгнании, даже связанные долгом царю, который, казалось, становился все больше, по мере того, как мы его выплачивали, мы оставались плодовитыми: нас становилось все больше. А детей надо было кормить. Они нуждались в крыше над головой. За это нужно было платить. И тогда мы продали себя: не только нашу работу, но и тела, которые ее выполняли. — Он заметил блеск ее глаз. — Нет, другие, не я! Но когда я вернулся в Фивы, побывав на Синае, то обнаружил, что там уже не осталось свободных людей. Все они были порабощены — для удобства, как говорили надзиратели. Чтобы было проще приказать делать то или другое. И после того, как я снова ушел, строителям гробниц было велено собираться в путь: нужно было строить город для живых.
— Пи-Рамзес, — сказала Нофрет. — Город Рамзеса. Стало быть, вы все принадлежите ему.
— Он так считает.
— И вы надеетесь, что царь действительно освободит вас всех только потому, что вы об этом просите?
— Ему лучше уступить нам.
Нофрет взглянула на него так, будто видела впервые.
— Даже ты веришь в это? Две дюжины мальчишек, горстка старейшин, пара жрецов, знающих трюк, который каждый жрец в Египте умеет делать чуть ли не с колыбели — и вы думаете, что можете пошатнуть силу Египта?
— Такой фокус, — ответил Иоханан, слегка скривив губы, — был проделан только для того, чтобы показать, что наши жрецы — тоже жрецы, а не погонщики мулов. Это было только началом.
— Это может стать и концом, — заметила Нофрет, — после того, что Моше наговорил царю.
— Не думаю. Царь, наверное, изумлен не меньше тебя. Теперь, когда его гнев улегся, он, возможно, даже доволен. Ему любопытно узнать, что мы еще можем сделать.
— И что же, последуют новые фокусы? Рука прокаженного, которой жрецы Сета и Собека пугают легковерных? Или превращение воды в вино, либо в кровь, если вы особо много о себе мните? Вы не умеете сделать ничего такого, что убедит царя освободить такое множество полезных для него рабов.
— Ты так думаешь? — Иоханан поднялся. — Что ж, я готов заключить с тобой пари.
— Не знала, что ты игрок.
— Конечно, игрок. Я дважды приходил в Египет. Я женился на тебе.
— Ну хорошо, пусть будет пари. Если выиграю я, мы все умрем здесь. Если выиграешь ты…
— Если выиграю я, мы уйдем свободными. И, как бы то ни было, сделаем это вместе.
— Если только ты отправишь Иегошуа обратно в Синай.
Теплота, возникшая было между ними, снова исчезла.
— Уже слишком поздно, — ответил Иоханан и ушел, оставив ее сидеть и гневно смотреть на то место, где только что стоял.
На другой день после приема у царя явился посланец, заявив, что желает говорить со жрецами из Синая. Он тоже был жрецом, из числа жрецов Амона, тот самый молодой человек, который в ответ на фокус с посохом показал свой. Имя у него было очень длинное, и он разрешил называть себя Рамосом — почти так же, как царя. Послание, которое он принес, исходило прямо из Великого Дома.
— Мой повелитель Гор размышлял над просьбой ваших людей, — сказал Рамос своим красивым голосом, — и решил, что стоит удовлетворить ее. Он сожалеет, что ему придется лишиться работников — столь умелых, столь многочисленных и столь необходимых на строительстве его города. Однако, если вы действительно желаете, чтобы ваш народ был свободен, вам всего лишь придется заплатить за каждого раба столько, сколько он стоит на рынке в Мемфисе, чтобы можно было купить новых работников вместо тех, кого придется отпустить.
Рамос замолчал, пока они распутывали его витиеватую речь и те, кто знал египетский, переводили остальным. Иоханан передал ее с возможной краткостью, словно выплюнув слова:
— Он говорит, что мы можем освободить своих людей, выкупив их.
Некоторые старейшины обрадовались, услышав это.
— Так просто? Всего лишь выкуп, и они наши?
— Именно так, — сказал жрец Рамос, обнаружив свое знание языка апиру. Говорил он, однако, по-египетски, не решаясь пользоваться языком пустыни.
— Вы заплатите за каждого мужчину, женщину, ребенка по ценам рынка в Мемфисе.
Все замолкли. Некоторые считали на пальцах. Нофрет видела, как истина постепенно доходила до них, и истина неприятная.
— Это же царское состояние в золоте!
— Но вы ведь понимаете, — сказал жрец, — что рабы и есть царское состояние. Разве он может лишиться их?
— Эта люди принадлежат нашему богу, — произнесла Мириам. Моше все еще сидел запершись во внутренних комнатах, но она вышла к жрецу, закутанная в покрывало. Ее голос звучал невероятно холодно. Почти нечеловечески холодно.
Жрец не смутился.
— Значит, ваш бог отдал их в руки нашего царя. Он будет продавать их, поскольку имеет на это право. Но он не может отдать их просто так.
— Наш бог одолжил их вашему царю для своих целей, своей славы и славы своего народа. Ваш царь тоже всего лишь инструмент в руках Господа. Смотри, жрец, как наш бог ожесточил свое сердце против нас, чтобы закалить свой народ, как железо в горниле.
— Наш царь и бог, — сказал жрец Амона, — не склонится перед волей простого духа пустыни.
— Конечно, — согласилась Мириам. — Его гордыня служит воле нашего бога.
Жрецу это, похоже, показалось забавным.
— Я вижу, ваш бог умеет все обращать в свою пользу. И, тем не менее, госпожа, хорошо бы получить от него более серьезные знамения, чем те, что мы накануне видели. Такие штуки может проделывать любой, самый незначительный божок. Великий бог, истинный бог, должен уметь делать больше.
— Наш бог — величайшим из всех. И скоро вы убедитесь в этом.
— Очень интересно, — сказал жрец, улыбаясь, и поклонился ей так низко, как будто она все еще была царицей.
59
Пока апиру сидели взаперти в гостевом доме мемфисского дворца, принимая посланцев и любопытных придворных и ожидая, пока Моше закончит свой пост и молитву, под покровом ночи явился еще один посланец. Он проделал долгое и трудное путешествие, почти ничего не ел и не пил по дороге. Нетрудно было догадаться, кто он такой: у него было лицо апиру, а шрамы на его спине были еще глубже, чем у Иоханана.
Звали его Эфраимом. Он принес в Мемфис известие от своих сородичей.
— Рабы ничего не имеют, но все знают, — сказал он с горьким юмором, сохранившимся, несмотря на усталость и страх.
Ибо он был в страхе, более того — в ужасе. Страх привел его в Мемфис, может быть, даже в руки царя, если того пожелает бог, чтобы говорить с пророком из Синая.
— Я не обращался к старейшинам в Пи-Рамзесе, — сказал он, — и не стал бы говорить с ними, даже будь у них у всех языки; но у многих их нет, потому что они возражали против недавних нарушений законов, и их лишили возможности возражать снова. — Он не стал слушать возмущенные слова собравшихся и продолжал: — Я пришел, потому что смог бежать, и Господь позволил это. Я хочу задать пророку один вопрос.
— Пророк молится Господу, — сказала Мириам. — Не смогу ли я ответить на твой вопрос? Люди называют меня провидицей апиру.
Эфраим покачал головой.
— Я должен спросить пророка.
Он явно был намерен добиться своего и во что бы то ни стало дождаться Моше. Тогда его накормили, отвели помыться, а потом уложили спать в помещении для молодых мужчин. Под защитой своих родичей он спал так, как не спал уже бессчетное множество ночей.
Эфраим, отдохнувший и сытый, при свете дня оказался худым и иссохшим, но все же было непохоже, что он вот-вот умрет от усталости и голода.
— Нас кормят как раз так, чтобы мы могли работать, — говорил он, завтракая вместе со всеми, кроме Моше. — Если мы слабеем и плохо работаем, нас секут бичами. Не до смерти, ни в коем случае — мертвыми мы не нужны. Нам говорят, что мы гораздо ценнее живые. Мы нужны царю, чтобы строить ему город.

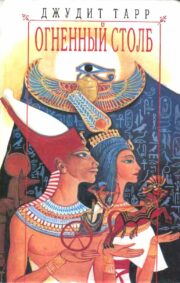
"Огненный столб" отзывы
Отзывы читателей о книге "Огненный столб". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Огненный столб" друзьям в соцсетях.