Нофрет больше не испытывала к нему ненависти. У нее лишь все сжималось внутри. Он был словно жар египетского лета или вонь навоза, или крокодил в тростниках: существует и неизбежен.
Даже уход царя ничего не изменит. Останется память, а его дочери придется жить с ложью о смерти отца — и с его врагами, но без Атона, который защищал бы ее так, как защищал царя.
Все чувствовали одно и то же: как будто, находясь среди пустыни, где нет убежища и негде его найти, видишь, как приближается буря. Они лишились даже той немногой зашиты, которую обеспечивали им присутствие царя и его власть. Дыхание ветра уже настигало всех. Египтяне пробуждались и обнаруживали, что царь, которого они так ненавидели, уже больше не царь. Теперь пробудятся боги, и жрецы выйдут из подполья. Сменхкара, даже если бы мог сопротивляться, не сумеет остановить их.
Нофрет гадала, будет ли он пытаться. Трудно сказать. Возможно, он поддастся жрецам, но может и проявить упрямство. Он был Возлюбленным Эхнатона, второй половиной царя: половиной распущенной, половиной, которая любила удовольствия и терпеть не могла скучные государственные дела.
Наверное, стоило бы попытаться узнать больше, чтобы понять, что он станет делать. Нофрет это как-то не пришло в голову — она была слишком занята царским обманом и участием в нем ее госпожи.
А сейчас у нее были неотложные дела. Агарон и Иоханан, все еще влажные и порозовевшие после трехкратного оттирания, снова собирались уходить. Когда царя принесут к бальзамировщикам — царица должна устроить, чтобы это было сделано поспешно, из-за жары, но в действительности потому, что чем дольше ждать, тем больше риск, что все раскроется, — они должны быть там. Вещи у них были с собой, огорчительно легкие для такого длительного путешествия: по небольшой связке для каждого и большая для царя. Нофрет знала, что в ней; сама помогала укладывать — конечно, одежда, сандалии, парик и накидка, чтобы скрыть слишком всем знакомое лицо царя и его бритую голову. Некоторые полезные мелочи. Для него не взяли никакого оружия, у остальных были длинные ножи, а у Иоханана — лук и стрелы. Глядя на них, Нофрет почувствовала смутное беспокойство. Она прежде не подозревала, что Иоханан умеет обращаться с этим оружием.
Надо было возвращаться, сказать госпоже, что все готово. Уходить не хотелось. Нофрет надеялась еще вернуться в этот дом. Там оставалась Леа, она не могла идти с ними, чтобы не мешать бегству. Но это будет уже не то…
Иоханан прервал ее размышления, потянув за растрепанную косу.
— Проснись, соня. Скажи своей госпоже, что мы будем ждать, как договорились, с едой, питьем и с ослом для нашего больного брата, который возвращается в пустыню для поправки здоровья.
— Или для смерти, — сказала Нофрет.
— Вряд ли нам так повезет, — возразил Иоханан.
У него всегда было легко на сердце, даже когда он занимался таким ужасным делом, как поиски трупа раба и доставка к бальзамировщикам. Ей было стыдно и за него, и за себя, за свои мрачные мысли и предчувствия. Она не заставила себя улыбаться — это было уже слишком, — но сказала:
— Иду. Мы еще увидимся? До того, как…
— Да, — Иоханан легонько подтолкнул ее к двери. — Поторопись. Уже скоро восход.
Нофрет, совершенно измученная и мало что соображавшая, все же ухитрилась достаточно быстро добраться до дворца. Она бежала, пока могла, а остаток пути шла быстрым шагом. Ноги даже перестали болеть и только слегка ныли. Она подошла к восточным воротам с первым лучом солнца, когда их только что открыли, и прошла в город, который, проснувшись, обнаружил, что лишился царя. Звуки, разносящиеся по улицам, могли бы сойти за скорбные стенания, если бы так подозрительно не напоминали вопли радости.
Во дворце царила удивительная безмятежность. Анхесенпаатон, наученная горьким опытом чумы, проследила, чтобы, когда настанет этот момент, предусмотрели все необходимое. Хотя встречались люди, бегущие без всякой цели, бьющие себя, в грудь и стенающие, чтобы их заметили и оценили, как преданных слуг, большинство из тех, что попадались по пути, были заняты делом.
Нофрет позаботилась о том, чтобы ее могли заметить только после появления во дворце цариц и не догадались, что она только что с улицы. Возможно, это была излишняя предосторожность — хотелось верить, что так. Всюду раздавался шепот, мелькали настороженные взгляды. Великий слуга Атона мертв. Никто еще не знал, что будет делать молодой царь. Может быть, сам он еще и не задумывался об этом, но его придворных и советников это очень занимало.
Нофрет, торопливо шагая по коридору к покоям своей госпожи, чуть не столкнулась с господином Аи. Она скользнула в сторону и опустила голову, как приучены делать слуги, стараясь быть как можно незаметнее.
Но он увидел ее. Хуже того, остановился. Нофрет молилась, чтобы он не заметил пыли на ее ногах, спутанных ветром волос. Его голос мягко прошелестел над головой.
— Ах, Нофрет. Твоя госпожа спрашивала о тебе.
— Я иду к ней, мой господин.
— Очень хорошо.
Господин Аи загораживал ей путь. Нофрет ждала, когда он сдвинется с места, но он не двигался. Девушка стиснула зубы. С людьми его положения не следовало поступать так, как с молодыми пьяными дураками, которые не раз пытались притиснуть ее к стене, и она не знала, как себя вести. Нофрет была крайне разочарована — прежде она думала, что господни Аи выше таких вещей.
У нее не создавалось впечатления, что от возбуждения он уже ничего не видит, кроме вожделенной цели, как дружки Сменхкары, с которыми ей случалось сталкиваться. Напротив. Господин Аи был совершенно спокоен. Но пройти ей не давал.
Она подняла голову.
— Господин, я хотела бы пойти к моей хозяйке, если можно.
— Да, — сказал он, все еще не двигаясь. Его лицо было лишено выражения. — Убеди свою госпожу отдохнуть. Она настаивает на том, что и сейчас, как всегда, должна быть царицей, как бы ни была измучена.
Нофрет подавила вздох облегчения. Он просто волновался за внучку, только и всего. Непохоже было, чтобы он заподозрил в смерти царя обман. На мгновение в голову пришла дикая мысль все рассказать. Но она была не настолько безумна, хотя и склонна доверять ему, в отличие от своей госпожи.
Она поклонилась с искренним уважением.
— Я сделаю все возможное, мой господин.
— Сделай. — Судя по всему, он поверил ей и, что еще лучше, отодвинулся, давая ей пройти.
Они и не вспомнили о второй царице, которая могла бы облегчить бремя власти. Нофрет, шагая к своей госпоже быстро, но без видимой спешки, решила пока не думать о том, что будет, когда Меритатон станет настоящей царицей, а Сменхкара — одним и единственным царем, что ждет Анхесенпаатон, чей муж умер, и у которой нет мужчины, чтобы дать ей другой и такой же могущественный титул.
29
Тело царя вынесли из города на золотых носилках, окруженных жрецами-бальзамировщиками и жрецами Атона, среди стенаний и воплей, как подобало царю, отправлявшемуся в дом мертвых или, как говорили в Египте, в дом очищения. Казалось, весь город, скорбя, последовал за ним. Они снова поступали так, как было заведено и Египте: разделяли человека и его власть, отделяя царя, которого они ненавидели, от царя, бывшего властелином Двух Царств, чье тело являлось телом царства, а сила — силой Египта.
Его будут оплакивать семьдесят дней. Затем молодой царь станет главным жрецом на его похоронах и унесет с собой из гробницы всю силу и власть царства. Так делали наследники царей еще с тех пор, как Египет был молодым, тысячи и тысячи лет, начиная с самого утра мира.
Но вдова умершего царя знала, что он жив. Знали об этом и служанка царицы, несколько бальзамировщиков и трое апиру из селения строителей. Даже этих немногих могло оказаться слишком много. Нофрет забыла, что такое сон, забыла, что такое отдых. Она не успокоится, пока царь не окажется далеко отсюда, пока тело раба не будет забальзамировано, завернуто в полотно и уложено в гробницу, пока не минует всякая опасность разоблачения.
Анхесенпаатон казалась значительно спокойнее, чем Нофрет. Она колотила себя в грудь и царапала себе щеки, как подобает царице, убитой горем, и, возможно, ее скорбь была искренней. Она теряла своего мужа-отца, будь он жив или мертв. Возможно, ей больше никогда не увидеть его.
Дверь дома очищения была закрыта для всех, кроме жрецов-бальзамировщиков. Даже царица должна была остановиться у входа и проститься с телом прежде, чем оно оденется в одежды вечности. Для Анхесенпаатон это было действительно последним прощанием. И она позволила себе сломаться, здесь, у этой двери, под небом, в тяжелых, почти холодных тучах, что было редкостью в Египте. Ветер пах дождем.
Она упала, рыдая, на грудь отца. Царь лежал совершенно неподвижно, без признаков жизни — ни малейшего дрожания век, ни малейшего дыхания. Нофрет снова подумала, не умер ли он на самом деле. Не заметно было, чтобы он хоть чуть-чуть пошевелился или вздохнул.
Другие слуги подошли, чтобы увести их госпожу от носилок. Нофрет не возражала. От непривычного холода она укуталась в темный плащ. Было несложно завернуться еще плотнее, скрыть голову и лицо и раствориться среди толпы.
Она видела, как рыдающую Анхесенпаатон подняли и повели прочь от носилок. Среди людей, поддерживающих ее, был господин Аи. Это порадовало Нофрет. Он позаботится о внучке и проследит, чтобы никто не беспокоил ее, пока она не выплачет свое горе.
Нофрет не тянуло плакать. Очень раздражало то, что ее госпожу пришлось втянуть в эту ложь, и то — да, то, что два человека, которых она считала своими друзьями, — идут в далекий путь и, может быть, на смерть, ради недостойного безумного царя.
Царские носилки исчезли в доме бальзамировщиков, и толпа сразу же поредела; вельможи разошлись со слугами и приятелями, простолюдины разбрелись по домам или вернулись к работе. Никто не задержался на пронизывающем ветру. Никто не остался, чтобы искренне оплакать царя.

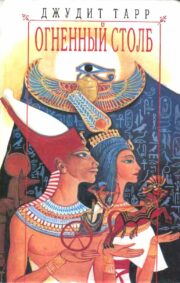
"Огненный столб" отзывы
Отзывы читателей о книге "Огненный столб". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Огненный столб" друзьям в соцсетях.