Мысль была утешительная, но я мало верила в нее. Во мне говорил голос опыта и совести, и прежде чем я могла подумать, рука опустилась на лист и написала: «анафилаксия».
Была ли анафилаксия известным медицинским термином в это время? Я не видела этого слова в журнале Роулингса, но я не прочитала его полностью. И все же, учитывая, что смерть от острой аллергической реакции вряд ли была известна сейчас, мне нужно подробно описать ее для того, кто сможет прочитать мои записи.
Загвоздка в том, кто будет их читать. Я думаю — никто, но что если кто-то прочтет их и увидит в них повод обвинить меня в убийстве? Однажды меня едва не казнили, как ведьму, из-за моей врачебной деятельности. «Обжегшись на молоке, дуешь на воду», — иронично подумала я.
«Обширная опухоль в поврежденной конечности, — написала я. Последнее слово было почти не видно, так как чернила закончились. Я обмакнула перо в чернильницу и продолжила. — Опухоль распространилась на грудь, шею и лицо. Кожа бледная с красными пятнами. Дыхание все более быстрое и поверхностное, сердцебиение очень частое и мелкое, затихающее. Губы и уши синюшные.
Резко выраженная экзофтальмия». [260]
Я снова сглотнула при мысли о выпученных глазах Розамунды, вращающихся в неосознанном животном ужасе. Когда мы обмывали ее тело, то попытались закрыть их. И хотя для ночного бдения принято было открывать лицо покойного, я не думаю, что в данном случае это будет разумно.
Я не хотела смотреть не гроб, но поглядела, слегка наклонив голову в молчаливой просьбе о прощении. Брианна повернула ко мне голову, потом резко отвернулась. Запах пищи, приготовленной для поминок, заполнил комнату, смешиваясь с запахами горящих дубовых дров, чернила и свежеструганных досок гроба. Я поспешно глотнула еще чая, прочищая горло.
Я хорошо понимала, почему первой строкой в клятве Гиппократа идут слова «Не навреди». Проклятие, навредить слишком легко! Каким самомнением надо обладать, чтобы вмешиваться в организм человека? Как уязвимо и сложно человеческое тело, и как грубо врачебное вмешательство.
Я могла бы уйти в кабинет, чтобы в уединении сделать свои записи, но знала, что не уйду, и понимала — почему. Белый саван из грубой ткани мягко светился в сером свете, льющемся из окна. Я сильно сжала перо, пытаясь забыть, как хрустнул перстневидный хрящ, когда я ткнула ножом в горло Розмунды в последней бесполезной попытке позволить воздуху проникнуть в ее задыхающиеся легкие.
«И все же… не существует практикующего врача, — подумала я, — который никогда не бывал в подобной ситуации». Я сталкивалась со смертью пациентов несколько раз даже в современной больнице, оснащенной всевозможными аппаратами для спасения человеческой жизни.
Какой-нибудь врач после меня может оказаться перед дилеммой: применить рискованное лечение в попытке спасти жизнь или позволить пациенту умереть. Моя же дилемма заключалась в том, чтобы найти баланс между возможным обвинением в убийстве и пользой моих записей для того, кто будет искать в них знания.
Кто это будет? Я задумчиво вытерла перо. В настоящее время медицинских школ было мало, и все они находились в Европе. Большинство врачей получали свои знания через ученичество и из собственного опыта.
Роулингс не обучался медицине. Даже если и обучался, по моим понятиям его методы лечения были шокирующими. Я скривила рот при мысли о некоторых описаниях в его журнале, например, вливание ртути при лечении сифилиса, применение банок до образования волдырей для лечения эпилептических припадков и пускание крови при любой немочи: от расстройства желудка до импотенции.
И, тем не менее, Даниэль Роулингс был врачом. Читая его записи, я ощущала его заботу о пациентах, его любознательность и интерес к постижению тайн тела.
Импульсивно я открыла страницу с заметками Роулингса. Может быть, подсознательно я откладывала принятие решения, или, возможно, мне хотелось посоветоваться с другим врачом таким же, как я.
Таким же, как я. Я уставилась на страницу с опрятными маленькими буквами и тщательными рисунками, но ничего не видела. Кто был таким же, как я?
Никто. Я думала об этом раньше, но лишь мельком, признавая только то, что проблема существует. Однако она казалась отдаленной и не требующей немедленного решения. В колонии Северная Каролина, насколько я знала, существовал только один официальный врач — доктор Фентиман. Я фыркнула и сделала еще глоток чая. Даже Мюррей МакЛеод и его патентованные средства были лучше; по крайней мере, в своем большинстве они были не опасны.
Я пила чай, размышляя о Розамунде. Простая истина заключается в том, что я тоже не буду жить всегда. При удаче проживу достаточно долго, но не вечно. Мне нужно найти кого-нибудь, кому я смогу передать хотя бы часть своих знаний.
Сдавленное хихиканье донеслось от стола. «Нет, — подумала я с сожалением, — не Брианна».
Она была бы самым логичным выбором; она, по крайней мере, знала о современной медицине. Не нужно было преодолевать невежество и суеверие, не надо убеждать в пользе асептики, в опасности, исходящей от микробов. Но у нее не было никакой склонности, никакого инстинкта к лечению. Он не была брезглива и не боялась крови; она помогала мне при приеме родов и небольших хирургических процедурах, и все же у нее отсутствовало то особенное сочетание сочувствия и жестокости, необходимое для врача.
«Возможно, она больше ребенок Джейми, чем мой», — думала я, наблюдая переливы света от очага в прядях ее распущенных волос. У нее была его храбрость, его большая мягкость, но это была храбрость воина, мягкость силы, которая могла убивать, если необходимо. Мне не удалось передать ей мой дар; знание крови и костей, знание человеческого тела.
Голова Брианны резко поднялась, повернувшись к двери. Марсали тоже повернулась туда, прислушиваясь.
Звук был едва слышен за стуком дождя, но зная, что он есть, я могла услышать мужской голос, начавший запев. Пауза, потом слабое грохотание, которое могло быть звуком отдаленного грома, но не являлось им. Мужчины спускались от хранилища в горах.
Кенни Линдсей попросил Роджера спеть для Розамунды гэльский плач по мертвому.
— Она не была шотландкой, — сказал Кенни, вытирая глаза, затуманенные слезами, — и даже не была набожной, но она любила петь и всегда восхищалась твоим пением, МакКензи.
Роджер никогда раньше не исполнял песни плача, и я знала, даже не слышал их.
— Не волнуйся, — пробормотал Джейми, положив ладонь на его руку, — просто нужно быть очень громким.
Роджер серьезно кивнул головой, соглашаясь, и отправился с Джейми и Кеннетом на солодильню выпить виски и узнать все возможное о жизни Розамунды, чтобы лучше оплакать ее кончину.
Хриплое пение исчезло; ветер сменил направление. Лишь благодаря порыву ветра мы услышали их так рано. Теперь они направились вниз от Риджа, чтобы собрать людей из дальних хижин и привести их в дом, где они будут всю ночь пировать, петь песни и рассказывать истории.
Я невольно зевнула, вспомнив про ночное бодрствование. «Я не смогу выдержать его», — тревожно подумала я. За последние сутки мне пришлось поспать лишь несколько часов этим утром — недостаточно, чтобы выдержать гэльские поминки и похороны. К утру все этажи будут забиты телами, пахнущими виски и мокрой одеждой.
Я снова зевнула, потом мигнула, и потрясла головой, чтобы прочистить ее. Каждая косточка в моем теле болела от усталости, и я желала только лечь и проспать несколько дней.
Углубившись в мысли, я не заметила, как Брианна подошла ко мне. Она обняла меня за плечи и притянула к себе. Марсали вышла; мы были одни. Она стала медленно растирать мои плечи и шею своими длинными пальцами.
— Устала? — спросила она.
— Мм. Да, — ответила я. Потом закрыла журнал и откинулась назад, с облегчением расслабившись. Я не осознавала раньше, насколько была напряжена.
Большая комната была прибрана для поминок. Миссис Баг присматривала за барбекю. Женщины зажгли по свече в каждом конце стола, и тени от них метались на побеленных стенах, когда пламя дергалось от случайного сквозняка.
— Я думаю, что это я убила ее, — внезапно произнесла я. — Это из-за пенициллина.
Длинные пальцы не останавливали своего успокаивающего движения.
— Да? — пробормотала она. — Но у тебя не было выбора, не так ли?
— Нет.
Дрожь облегчения пробежала по моему телу, как от смелого признания, так и от ослабления болезненной напряженности в шее и плечах.
— Все в порядке, — мягко произнесла она, потирая и поглаживая. — Она бы все равно умерла, не так ли? Это печально, но ты все сделала правильно. Ты сама знаешь это.
— Знаю, — к моему удивлению, единственная слеза скатилась по моей щеке и упала на бумагу. Я сильно моргнула, пытаясь не расплакаться. Я не хотела волновать Брианну.
Она была спокойна. Ее руки оставили мои плечи, и я услышала царапанье ножек стула. Потом руки обняли меня, и я прислонилась спиной к ее груди. Она просто держала меня, позволяя мерному повышению и падению ее грудной клетки успокаивать меня.
— Однажды я обедала с дядей Джо, как раз после того, как он потерял больного, — произнесла она. — Он сказал мне об этом.
— Да? — я была немного удивлена; я не думала, что Джо станет говорить с ней о таких вещах.
— Он не собирался. Но я видела, что его что-то беспокоит, и спросила. Ему нужно было выговориться, и никого, кроме меня, не было. Позже он сказал, что как будто поговорил с тобой. Я не знала, что он называл тебя леди Джейн.
— Да, — отозвалась я, — из-за моей манеры говорить. Так он сказал.
Я почувствовала дыхание тихого смеха возле своего уха и улыбнулась в ответ. Я закрыла глаза и увидела моего друга, жестикулирующего во время страстного монолога, с горящим от сдержанного смеха лицом.

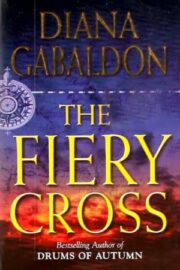
"Огненный крест. Книги 1 и 2" отзывы
Отзывы читателей о книге "Огненный крест. Книги 1 и 2". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Огненный крест. Книги 1 и 2" друзьям в соцсетях.