Она лежала, как упала, на его груди; и громкий медленный стук его сердца звучал в ее ушах. Отсюда в открытом окне она могла видеть зубчатую линию деревьев на дальнем конце двора и над нею участок неба со звездами такими яркими и такими близкими, что казалось возможным ступить среди них и пойти все выше и выше к полумесяцу луны.
— Ты не сердишься на меня? — прошептал он. Теперь он говорил довольно легко, но лежа ухом на его груди, она могла слышать небольшую сдавленность в его голосе, когда он с силой проталкивал звуки сквозь деформированное горло.
— Нет. Я никогда не запрещала тебе читать его.
Он легко погладил ее плечо, и она поджала пальцы ног от удовольствия. Возражала ли она? Нет. Она предполагала, что должна была чувствовать себя неудобно от того, что ее мысли и сны стали ему доступны, но она доверяла ему. Он никогда не станет использовать это против нее.
Кроме того, записанные на бумагу, сны стали объектами, отдельными от нее самой. Как ее рисунки, они явились отражением одной грани ее души, кратким отблеском того, что она когда-то видела, о чем когда-то думала, что когда-то чувствовала. Объектами, не тождественными ее уму и сердцу, которые их породили. Не совсем.
— Хотя, око за око, — она уткнулась подбородком в ямку под его ключицей. Он великолепно пах, немного горько и мускусно от удовлетворенного желания. — Расскажи мне о своем сне.
Беззвучный смех заставил вибрировать его грудь, и она почувствовала это.
— Только об одном?
— Да, но только очень важном. Не бестолковые сны, где тебя преследуют монстры, или ты отправляешься в школу голым. Не обычные сны, которые видят все, а такой сон, какой есть только у тебя.
Одной рукой она ерошила волосы на его груди, заставляя их топорщиться, другая рука была засунута под подушку. Если бы она пошевелила пальцами, то смогла бы дотронуться до маленькой фигурки «женушки», как ее называл Роджер, и могла представить собственный живот таким же огромным и круглым. Внутри себя она все еще ощущала напряжение и легкие спазмы, последствия любовных ласк. Может быть, это случится на этот раз?
Он повернул голову на подушке, раздумывая. Длинные ресницы черной полосой лежали на его щеках, как линия деревьев снаружи. Потом он поднял их и открыл глаза цвета мха, мягкого и яркого, какой растет в затененном месте.
— Я мог бы быть романтичным, — сказал он, и его пальцы поползли вниз по ее спине. Вслед за ними по ее коже тянулась дорожка из пупырышек. — И мог бы сказать, что мой сон… это ты и я… и наши дети. — Он слегка повернул голову в сторону кроватки в углу, где, укрытый одеялами, крепко спал Джемми.
— Ты мог бы, — отозвалась она эхом и, наклонив голову, уткнулась лбом в его плечо. — Но это не сон. Ты понимаешь, что я имею в виду.
— Да.
Он молчал в течение минуты, и его руки неподвижной теплой тяжестью лежали на ее спине.
— Иногда, — наконец, прошептал он, — иногда я вижу во сне, что я пою, и просыпаюсь от боли в горле.
Он не мог видеть ее лица и слезы в уголках ее глаз.
— Что ты поешь? — прошептала она в ответ. Она услышала шелест подушки, когда он покачал головой.
— Эту песню я не знаю и никогда не слышал, — ответил он нежно, — но я знаю, что я пою ее для тебя.
Глава 106
Книга хирурга II
27 июля 1772
«Вчера к закату явилась Розамунда Линдсей с рубленой раной на левой руке, по которой она ударила топором, когда окольцовывала деревья. Рана была очень глубокая (большой палец практически был отрублен) и тянулась от указательного пальца до запястья. Несчастный случай произошел три дня назад, и лечение проводилось в домашних условиях свиным жиром. Как следствие развился обширный сепсис с нагноением, опухоль распространилась на предплечье. Большой палец почернел и имел характерный резкий запах. Без сомнения, это была гангрена. Подкожная краснота распространилась практически до локтевой ямки.
У больной был сильный жар (около 104 градусов по Френгейту, на глаз), признаки обезвоживания, дезориентация. Тахикардия.
Ввиду серьезности состояния была рекомендована немедленная ампутация конечности до локтя. Больная отказалась, настаивая на голубиной припарке, которая делается из разрезанной тушки только что убитого голубя (ее муж принес голубя со свернутой шеей). Удалила большой палец до пястной кости, перевязала конец радиальной артерии, которая была разорвана. Обработала рану, удалив гной, посыпала рану необработанным порошком пенициллина (приблизительно ½ унции, получен из подгнившей корки дыни, партия № 23, изготовл. 15/4/72), наложила аппликацию из протертого сырого чеснока (три зубчика) и барбарисовой мази, сверху (по настоянию мужа пациентки) пристроила голубя. Прописала принятие жидкости орально, жаропонижающую настойку из красного золототысячника, лапчатки и хмеля, воды сколько угодно. Ввела внутримышечно раствор пенициллина (партия № 23), IV, дозировка ¼ унции в стерилизованной воде.
Состояние пациентки быстро ухудшилось с усиливающимися признаками дезориентации, бреда и высокой температуры. По всей руке и торсу развилась сильная крапивница. Поскольку больная была без сознания, спросила разрешения на ампутацию руки у ее мужа. В разрешении было отказано на том основании, что смерть кажется неизбежной, а пациентка „не захочет, чтобы ее похоронили по частям“.
Повторная инъекция пенициллина. Больная впала в кому сразу же после этого и скончалась перед рассветом».
Я обмакнула перо в чернильницу и замерла, позволив капелькам чернила стекать с его острого конца. Что еще я могу сказать?
Глубоко укоренившаяся привычка к научной точности боролась с чувством осторожности. Важно было описать произошедшее с максимальной точностью. В то же время я не решалась писать то, что может привести к обвинению в убийстве. Это было не убийство, уверяла я себя, хотя все равно испытывала чувство вины.
— Чувства обманывают, — пробормотала я. Брианна, которая резала хлеб на другом конце стола, взглянула на меня, но я опустила голову, и она вернулась к негромкому разговору с Марсали. Полдень наступил недавно, но снаружи было темно, и шел дождь. Я зажгла свечу возле себя, но вокруг женщин стоял полусумрак, и их руки мелькали над столом, словно крылышки белой моли.
Правда заключалась в том, что я не была уверена, что Розамунда Линдсей умерла от сепсиса. Я была почти уверена, что она умерла от острой реакции на неочищенный раствор пенициллина, лекарства, которое я ей дала. Конечно, без лечения она все равно умерла бы от сепсиса.
Однако, давая пенициллин, я не могла знать, какой эффект он будет иметь — вот в чем вопрос.
Я в раздумье катала перо между большим и указательным пальцами. Я вела тщательный учет своих экспериментов с пенициллином, изучала рост культур на различных средах от хлеба до пережеванной папайи и подгнившей дынной корочки, кропотливо описывала микро- и макроструктуру пенициллиновой плесени, но про действие этого препарат я могла написать немногое.
Да, разумеется, я должна включить в записи о смерти Розамунды эффект, который он оказал на нее. Вопрос только в том, для кого мне писать столь подробный отчет?
Я прикусила губу, раздумывая. Если только для меня, то все очень просто. Я могла сделать запись о симптомах, времени протекания и действии, не отмечая причину смерти; вряд ли я забуду ее обстоятельства. Но если я хочу, чтобы отчет стал полезным кому-нибудь еще… тому, кто не имел понятия о пользе и опасности антибиотиков…
Чернила подсыхали на кончике пера, и я опустила его на бумагу.
«Возраст 44 года», — медленно написала я. Записи подобного рода в восемнадцатом веке должны были заканчиваться набожным описанием последних мгновений жизни умершего, отмеченных раскаянием в грехах. Ничем подобным уход Розамунды Линдсей не был отмечен.
Я взглянула на гроб, стоящий на табуретках под окном, стекла которого заливал дождь. Хижина Линдсеев была слишком мала и не подходила для похорон под проливным дождем, поскольку ожидалось много людей. Гроб был открыт в ожидание ночного бдения, но лицо покойницы прикрывал саван.
Розамунда была шлюхой в Бостоне, а потом, став слишком толстой и слишком старой, чтобы заниматься этим делом, двинулась на юг в поисках мужа. «Я больше не могла вынести там ни одной зимы, — призналась она мне, вскоре после появления в Ридже, — не могла терпеть этих вонючих рыбаков».
Здесь она нашла Кеннета Линдсея, который искал жену для совместного ведения хозяйства. Речь не шла о физическом притяжении — у Линдсея во рту было только шесть здоровых зубов — или эмоциональной привязанности, но, тем не менее, между ними существовали дружеские отношения.
Опечаленный, но не убитый горем, Кенни был уведен Джейми для лечения с помощью виски, которое оказалось более эффективным, чем мое. По крайней мере, я надеялось, что оно не окажется смертельным.
«Непосредственная причина смерти», — написала я и опять остановилась. Я сомневалась, что Розамунда встретила смерть с молитвами или философским спокойствием, у нее не было возможности ни для того, ни для другого. Она умерла с синим от удушья лицом и выпученными глазами, неспособная не только говорить, но и дышать сквозь распухшее горло.
Мое собственное горло сжалось при воспоминании, словно меня тоже что-то душило. Я взяла чашку с холодным мятным чаем и сделала глоток, почувствовав облегчение, когда освежающая жидкость потекла вниз по горлу. Сепсис убил бы ее медленно, а удушье — быстро, но в любом случае смерть была болезненной.
Я постучала кончиком пера по промокательной бумаге, образовав на ней маленькую звездную галактику из чернильных точек. Однако смерть могла произойти и по другой причине, например, легочной эмболии — закупорки кровеносных сосудов в легких. Это было возможно, и признаки похожи.

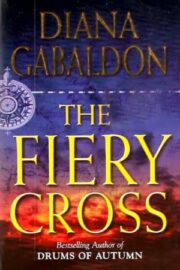
"Огненный крест. Книги 1 и 2" отзывы
Отзывы читателей о книге "Огненный крест. Книги 1 и 2". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Огненный крест. Книги 1 и 2" друзьям в соцсетях.