Я всегда считала Брюса великим артистом, даже когда видела его мертвецки пьяным. И поверьте мне, я знаю, что ждет Аньес, потому что Брюс на моих глазах всегда восстанавливался, сев за пианино. На сцене в «Берси» он привел в восторг свою публику. Не переигрывая, не прыгая взад и вперед по сцене, не навязывая нам смехотворных реплик от себя типа «Добрый вечер, Париж, я вас люблю…». Хотя бесполезно было рассчитывать на него в смысле грандиозности представления. На гигантских экранах старые клипы Брюса чередовались с показом крупным планом его музыкантов, световое оформление, порученное американскому электронщику, погружало Дворец Омниспорт в голубой океанский прилив, целая армия танцовщиц и хористок занимала пространство сцены, но все в целом было недостаточно профессиональным. Брюс исполнял номера, которые сам сочинил за двадцать лет, при этом в его манере не было и намека на манию величия. Он не навязывал слушателям своего нового альбома, прежде чем исполнить некоторые свои старые вещи. Напротив, он исполнял только свои хиты. Возбуждение достигло апогея, когда весь свет погас, и негромко прозвучали первые ноты «Мишель», лирической песни «Битлз», которую ливерпульцы якобы посвятили одной француженке. Потом все экраны зажглись, один за другим, и зрители увидели короткий фильм, единственным персонажем которого была Аньес. Не могу вам передать эмоций: зал взорвался радостными возгласами. Все ждали развязки дела, в котором никто уже больше ничего не понимал. И никто никогда в действительности не видел инициатора этого дела, кроме как на нескольких фотографиях в журналах «Вот так!», «Пари-Сенсации» или в газете «Либерасьон». Теперь уже можно было рассмотреть ее во всех ракурсах: дома за книгой, во время прогулки по Лувру, идущей по берегу Сены, во время пребывания в Нью-Йорке, в самолете… И все это время Брюс пел новую версию песни, где имя Аньес заменило Мишель. В романтическом жанре нельзя было придумать лучшей мелодрамы. Но ничего не поделаешь, это работало. Даже я была взволнована. К счастью, я уже выплакала все свои слезы в предшествовавшие концерту недели, иначе бы прослезилась, как другие, когда Аньес присоединилась к Брюсу на сцене. Она двигалась неторопливо, спокойно, как будто была одна. На ней были черное очень короткое платье, черные чулки, черные туфли. Аньес подошла к Брюсу, свет погас, и он спросил ее, станет ли она его женой; она сказала «да», и он сел за пианино и заиграл свадебный марш. Какой? Не спрашивайте меня, я совсем не знаю музыки, написанной до появления проигрывателей. Одно точно: фрагмент был очень известный, я его слышала сто раз. Вначале Брюс играл сам, затем один за другим стали вступать музыканты ансамбля, и мало-помалу мелодия набрала мускулов и в какой-то неуловимый момент превратилась в рок-композицию. Завершился концерт несколькими наиболее драйвовыми вещами из репертуара Брюса. Его истинная натура вновь взяла верх. Не раз он мне говорил, что медленные мелодии ему скучны. Если он и сочинял по одной медленной песне для альбома, то лишь по просьбе «Континенталь» — это было нужно для радио. «Я делаю это для публики, — говорил Брюс, — но никогда не исполняю медленные вещи на концертах. А чтобы уснуть, я предпочитаю послушать классическую музыку». С Аньес он получил свое. Она была классической и, чтобы усыпить его, подойдет в самый раз. Но поздравлять ее — о нет. Я не пошла на их званый обед. Я уже достаточно наелась в этот вечер видом людей, которые доказывают свое существование, пожимая руки знаменитостям. Эта стерва будет праздновать свой триумф без меня.
Эпилог
Аньес де Курруа.
Если вы думаете, что я буду признавать свою вину, я вас сразу разочарую. Я никогда никому не причиняла вреда, и я предпочитаю оставаться в стороне. Не думайте, что мое дело сводится только к вопросу денег. Я никогда не умела их зарабатывать, но мои грезы ничего не стоят. Только я уже достигла определенного возраста, и если посмотреть вблизи, то я почти что и выглядела соответствующе. Пора было действовать, когда появился Брюс. Тем не менее моя ложь не была предумышленной. Это случилось просто само собой. Как знак Провидения, но совершенно непредвиденно. И с того момента, как я подала жалобу, мне стало стыдно. У меня было такое впечатление, что я поставила ногу на зыбучий песок, который засасывает меня куда-то. В таком случае единственное, что следует делать, это убрать ногу, стоять у края и больше не делать никаких движений. Это как раз по мне, это моя характерная черта — ждать, погрузившись в мечты. Речи не было о том, чтобы говорить что-либо. Когда вышла статья в «Сенсациях», продиктованная Эдуаром, мне, однако, поступило две сотни предложений об интервью со всего мира. А моему адвокату — еще больше. Он дал только одно или два интервью, чтобы намекнуть, что опрос в отеле и в больнице подтверждает мои заявления. Ничего больше. А я… я не произнесла ни слова. Без каких-либо последствий, уверяю вас. Когда я вернулась в Париж после недели, проведенной в Бретани, ни один фотограф больше не дежурил у входа в мой дом. Несколько недель спустя мэтр Делор тщательно отобрал горстку журналистов, которым я рассказала правдивую, но подретушированную версию своей биографии, не произнеся ни слова о сути моих обвинений. Конечно, журнал «Сенсации» не вошел в число избранных. Эдуар проклял меня. Я пожала плечами, в восторге, что он мне нашел такого ловкого защитника. Этот мэтр Делор воспринимал все мое дело как игру. Причем игру забавную, потому что он был уверен в нашей победе. Моя авантюра напоминала ему «Лилию в долине». Сначала красивая, длинная и вызывающая слезы история любви, затем резкое понижение градуса — чтобы укротить воздыхателя — письмо отвратительно краткое, циничное и насмешливое от парижанки моего типа. Когда Делор спросил меня, читала ли я этот роман, я тут же дала ему понять, кто есть кто, сказав:
— Я даже не желаю разговаривать с людьми, которые не читали Бальзака.
Это было правдой, между прочим. Даже если мир состоит из разных людей, мой мир прекрасно обходится почти без всех. И в Париже, у себя дома, поверьте, я никогда не буду испытывать недостатка в партнерах сродни себе, немного снобах, немного притворщиках, слегка насмешливых и очень эгоистичных, полных любопытства и очень образованных. В Нью-Йорке будет иначе. Бальзак подождет. Но Мелвилл и Фицджеральд займут его место. Я больше не беспокоюсь. Единственной мукой будет, если Брюс вынудит меня общаться с очень важными персонами Манхэттена. Обожаю часто бывать в местах, где появляются сверхбогачи, но одна. Я не стремлюсь с ними разговаривать, мне вполне достаточно для счастья наблюдать за ними. Однако без паники: Брюс в этом такой же, как я. В первый день на показе у Диора он поздоровался с полутора десятками человек и ретировался. Он счастлив только тогда, когда он совсем один. Успокойтесь, я не намереваюсь быть навязчивой. Когда я приехала к нему на Лонг-Айленд, он бросился ко мне, счастливый, как летняя почва после дождя. Я его заключила в объятия с твердым намерением никогда их не размыкать. Моему терпению столько же лет, сколько и мне, и оно не помолодеет. Что я люблю в Брюсе, так это не его любовь, а ту жизнь, которую он мне дает. Поверьте мне, это продлевает чувства. Думаю, моя нежность сможет достичь своего рода совершенства. Не забывайте: я буржуазка, у меня есть чувство долга. Не потому ли, что это дает и права? Вы меня находите циничной? Напрасно. Просто я люблю возделывать только свой садик. Но что делать, если он уже в цветах. Мое любимое прозаическое произведение — это не повесть Вольтера «Кандид», а роман «Опасные связи» Шодерло де Лакло. Почему? Потому что в романе говорится правда: злые всегда выигрывают. Итак, я одержала верх. И тем лучше для Брюса. Я не думаю ему докучать. Скорее развлеку его. А если он устанет, я вернусь к нам во Францию. На берега Сены, небольшой красивой реки, соответствующей масштабам нашего старого шарма и нашей национальной гордости. Здесь люди гордятся тем, что они немодные. Мы не стремимся все быть положительными героями. Наша жизнь — это не один из американских ситкомов.

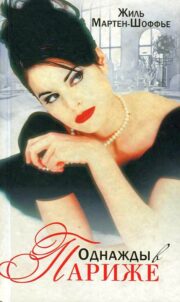
"Однажды в Париже" отзывы
Отзывы читателей о книге "Однажды в Париже". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Однажды в Париже" друзьям в соцсетях.