Ивэн, который теперь никуда не выходил, поел без всякого интереса к тому, что приготовила его жена. Эспер знала, что его деньги на исходе, но это было не единственной причиной — Ивэн просто ушел в себя. Он ел, спал, рисовал, много времени он проводил в размышлениях. Когда Эспер обращалась к мужу, он отвечал с явным раздражением или же не отвечал вовсе. В постели он был холоден и недоступен. Было такое впечатление, что он отгородился от нее непроницаемой завесой, за которой их жизнь на чердаке и сама Эспер казались лишь ничего не значащими тенями.
Когда Эспер позировала Ивэну, все было по-прежнему. Она думала, что Ивэн будет и дальше работать над полотном, начатом в Марблхеде, но ошиблась. Эспер сидела на высоком стуле, пока ее мускулы не затекали и голова не начинала сильно болеть, а Ивэн делал набросок за наброском, углем, акварелью, маслом. И каждый последующий он выбрасывал, говоря, что у него ничего не выходит.
Как-то в августе Эспер наконец взбунтовалась. На чердаке было душно; сквозь стеклянную крышу ярко светило солнце; капельки пота выступили у Эспер над верхней губой; во рту был соленый привкус. Ивэн работал над большим эскизом, изображающим молодую женщину в полный рост. Эспер в своем зеленом платье была вся мокрая от жары, спина ее болела. Жара и дыма добавлял готовящийся на плите ужин: почки в красном вине — Ивэн их любил, и к тому же они дешево стоили. Тяжелый запах тушившихся почек и лука смешался с едким запахом скипидара.
Эспер расслабилась и посмотрела на Ивэна. Его лицо тоже было мокрым, он вытирал пот тряпкой, которую использовал во время рисования. Но он, в отличие от Эспер, был по пояс раздет и сидел не под прямыми лучами солнца.
— Ивэн, как идут деда? — резко спросила она.
Ивэн нетерпеливо вздохнул и бросил кисть в глиняную кружку.
— Ужасно, я. не могу рисовать в четырех стенах. Освещение мерзкое, все получается застывшим, неживым.
— Я тоже больше не могу позировать. Здесь страшное пекло, — Эспер сошла с коробки, которая служила ей постаментом и, глядя на незаконченное полотно, встала за спиной мужа. — По-моему, очень мило, — воскликнула она в восхищении.
— Да ну, — презрительно произнес Ивэн и сорвал эскиз с мольберта. — Дешевка, только посуду разрисовывать. Неужели ты не видишь, что в этом нет правдивости? — зло добавил он.
Ивэн взял другой холст и поставил его на мольберт. Это была небольшая картина, выполненная маслом, изображающая шхуну в бостонской гавани. Он написал ее до того, как приехал в Марблхед. Осмотрев картину, Ивэн взял специальный нож и очень аккуратно стал скрести пятнышко краски на борту корабля.
Эспер с минуту наблюдала за ним. У нее вдруг перехватило дыхание.
— Ивэн, ради Бога, ты не мог бы на минуту оставить свое занятие, я… — ее голос дрогнул. — Ты меня совсем больше не любишь, — прошептала она.
Эспер скользнула за занавеску и кинулась на кровать. Она старалась сдержаться, но через некоторое время расплакалась в полный голос.
Эспер почувствовала, как муж сел рядом с ней на кровать и дотронулся до ее плеча. Она зарылась лицом в подушку. Он встряхнул ее за плечо.
— Прекрати, — грубо сказал Ивэн. — Повернись.
Эспер медленно обернулась к нему.
Ивэн посмотрел на ее мокрое от слез лицо и добавил:
— Я тебя обо всем предупреждал, у тебя нет причины для такого поведения.
Нет причины, подумала она, встретившись с его холодным взглядом. С момента посещения кафе он не сказал ей ни одного нежного слова. Одна готовка, уборка и позирование на этом душном чердаке, жизнь бок о бок с совершенно чужим человеком.
— Я тебя предупреждал обо всем, — повторил он. — Мне это нравится не больше, чем тебе, но мне нужно побыть одному.
— Ты и так один, тебе бы лучше быть одному, — возразила Эспер и прикрыла рукой рот. Не нужно говорить это, твердил ей внутренний голос. Молчи. Перед ней возникло видение: они как две борющиеся фигуры на краю пропасти. Посмотрев на худое смуглое лицо Ивэна, его мускулистую руку, мокрые от пота волосы, Эспер вздрогнула и опять уткнулась лицом в подушку.
На плите булькала кастрюля с почками. Полено прогорело и рассыпалось мелкими искрами, с улицы доносился шум и грохот, где-то рядом плакал ребенок.
— Эспер, — обратился к ней Ивэн, голос его был спокойным, — ты знаешь, что у меня больше нет денег. Я должен кое-что привести в порядок для выставки. Может быть, какой-нибудь болван это купит, хотя ничего путного за это лето я не написал.
Эспер, не отрывая лица от подушки, пробормотала:
— Я же не виновата! Я хотела тебе помочь.
Она услышала, как Ивэн подошел к умывальнику и налил себе воды.
— Я не говорю о твоей вине, — хрипло сказал он.
Сев на кровати, Эспер увидела, что муж стоит около раковины и держит в руке старый кувшин, который они купили у старьевщика всего за десять центов.
— Почему ты со мной так разговариваешь? — тихо спросила она.
Поставив кувшин на место, Ивэн резко обернулся к ней.
— Потому что я не могу себя сдержать. Никто не может увлечь меня надолго, во мне какой-то стержень, нет, скорее, стеклянный шарик, который нельзя трогать, иначе он рассыпается на мелкие осколки. Понимаешь?
— Не знаю, — ответила Эспер, — не знаю. Сначала все было иначе, ты меня любил, мы были счастливы. Теперь все изменилось. Только не смотри на меня так, будто ты меня ненавидишь.
Она опустила голову, расправляя рукой угол простыни.
Ивэн подошел к кровати и сел рядом с ней.
— Эспер, я не бессердечное чудовище. Я не хочу делать тебя несчастной. Я боялся, что все будет именно так, поэтому я не хотел…
Эспер вздрогнула.
— Ты хотел переспать со мной несколько раз и нарисовать меня? Только из этого ничего не вышло. Так ведь?
Ивэн молчал, пораженный ее выводом. Его захлестнула жалость к Эспер. Он посмотрел на изгиб ее шеи, красивые руки, — она опять стала для него живой.
— Нет, это неправда! — воскликнул он. — Я тебя люблю.
Эспер, приподняв голову, затаила дыхание, ее светло-карие глаза потемнели. Ивэн поцеловал ее, и она сдалась, больше она ни о чем не могла думать. Но теперь ее мысли никогда не будут спокойны, они прорывались сквозь огонь страсти, как чернота и горечь.
В первую неделю сентября в художественной галерее Гупила, на углу Бродвея и Девятой улицы, состоялась выставка Ивэна Редлейка. На ней были представлены дюжина акварелей коннектикутского и массачусетского побережий и полдюжины картин, написанных маслом. Одной из поздних была «Очаг и Орел», написанная по небольшим наброскам. Портрета Эспер здесь не было.
В день открытия народу пришло очень мало. Многие еще не вернулись из своих летних домов в Ньюпорте и Лонг-Брэнче, но это объяснялось еще и тем, что Ивэн как художник был не очень популярен. Чета Редлейков приехала в три. Эспер была в зеленом платье, немного потерявшем свой вид от стирки и чистки, и в дешевой желтой соломенной шляпке. Ивэн, одетый в свой темно-синий костюм, был в плохом расположении духа. Ничто, кроме двух небольших акварелей, не нравилось ему. В галерее к тому же было плохое освещение: салоны Лидса и Майнерса являлись куда более привлекательными местами, но они были недоступны.
Осмотрев экспозицию, Ивэн отошел в сторону и принялся обсуждать что-то с владельцем галереи. Эспер медленно и неловко прохаживалась по небольшому помещению. Она приблизилась к одной из пар в надежде подслушать мнение молодых людей. Эти двое были молодоженами из Цинциннати, зашедшими сюда совершенно случайно из простого любопытства. Их комментарии не обнадеживали.
— Боже, Гарри! — воскликнула молодая женщина, смеясь. — Разве это можно рисовать?
Она указала на одно из самых больших полотен, написанных маслом. На картине было изображено деревенское школьное здание красного цвета. На переднем плане дрались несколько мальчишек, а четыре маленькие девочки водили хоровод. На заднем плане слева от здания школы стояла маленькая уборная. Она почти целиком спряталась в тени огромного вяза, но именно об этой постройке говорила новобрачная.
— И какие грязные дети, — добавила она. — Может быть, этот цвет и следует считать красным, но я бы нарисовала его пурпурным.
— Да, — равнодушно согласился ее муж. — Ужасно. Только посмотри на этот кривобокий дом. Я думаю, этот парень просто не умеет рисовать.
Этим кривобоким домом был «Очаг и Орел». Эспер проследила за их критическими взглядами, и острая боль пронзила ее грудь. «Не смейте так говорить о моем доме!» — подумала она и хмуро посмотрела на жеманное лицо новобрачной. Она подождала, пока пара удалилась, и подошла к картине. До этого момента она никогда не интересовалась ею. Ивэн писал ее по утрам, когда Эспер была занята со Сьюзэн на кухне. Она вспомнила, как искренне удивлялась, что интересного находит Ивэн в этом старом убогом доме, и так же, как большинство первых зрителей Ивэна, считала его цвета очень странными. Потом она совершенно забыла о картоне, пока Ивэн не раскопал ее для этой выставки.
Теперь Эспер смотрела на нее, и странная незнакомая печаль поднималась в ее сердце. Ивэн рисовал на утреннем солнце, и живительный золотистый свет заливал восточную половину дома с высокой двускатной крышей и сверкал на водной поверхности Малой Гавани. Но остальная часть дома была в тени, отбрасываемой буйной зеленью высокого каштана. Обе расходящиеся крыши и их шаткие подпорки, ржавые трубы, окна с многочисленными стеклами в переплетах и покосившаяся пристройка — все было объединено чувством вызывающей выносливости. С удивлением Эспер видела на картине все то, чего не замечала никогда в настоящем доме.
В галерею вошли несколько человек, и Ивэн пошел приветствовать их. Но Эспер не могла оторвать зачарованного взгляда от полотна.
Пристально глядя на изображение своего дома, она думала, что видит в нем более глубокий смысл, и в тот момент она слышала голос своего отца, не высокий и жалобный, каким он был в жизни, а звучный и торжественный, читающий слова о Фиб из письма леди Арбеллы: «Высшая степень выносливости — преодолевая любые беды, следовать за своим мужем повсюду».

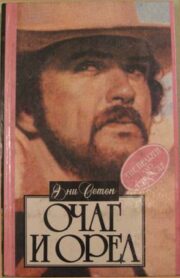
"Очаг и орел" отзывы
Отзывы читателей о книге "Очаг и орел". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Очаг и орел" друзьям в соцсетях.