Мне кажется, я женился, чтобы ни с кем не спорить. Все равно мы собираемся жить вместе, ну и какая тогда разница — носить кольцо или нет?
Беатрис говорила мне, что свадьба для нее — это публичное объяснение в любви, и выходило это у нее очень мило. Еще она говорила, что раз мы не спешим под венец, значит, попросту боимся взвалить на плечи бремя любви; потом, слово за слово, постепенно нагнетая, принималась утверждать, будто мы этой любви стыдимся, а дальше выходило, что мы не любим друг друга по-настоящему, и — окончательный вывод: значит, мы вообще не любим друг друга. «Если бы ты меня любил, ты бы хотел на мне жениться». Тут ее глаза заволакивались слезами, и я чувствовал, что если не поспешу надеть кольцо на ее изящный пальчик, то заставлю ее страдать. А только чудовище может проявлять жестокость, видя слезы на таких прелестных глазках.
Порой я задумывался о том, чем заслужил подобную честь. Вокруг полно было парней куда ярче меня, так почему я? Позже я понял… Я постепенно начал это понимать, когда уже ничего не мог изменить… Ставки были сделаны. А ведь ответ напрашивался сам собой: потому что я серый. И не способен ее затмить. И не только из плоти и крови, но и из теста, из которого можно вылепить, что пожелается.
Меня не пришлось долго упрашивать — я женился. Красавица невестка стала для моих родителей как бы вторым ребенком, хоть и не они ее выбрали. Красота — страшная сила. Красивый всегда кажется умнее, милее и приятнее других. Красивый легко получает привилегии, — что до меня, я бы предпочел их упразднить.
Сказать мне в глаза, что я не заслуживаю такой жены, как Беатрис, мать не решалась, но она так явно это подразумевала, что получалось, наверное, еще хуже. «Тебе повезло, что тебя заметила такая классная женщина!»; «Что только она в тебе нашла?» Как-то вечером я, отбросив всякое стеснение, спросил: «Она слишком хороша для меня, да? Я такой урод? На меня смотреть противно?» Мать возмутилась: вовсе нет, я не понял, я очень даже ничего, и со мной вполне можно появляться на людях, и вовсе я не урод, а симпатичный парень, просто она думала, что у меня будет более обычная жена, — нет, не глупая, не страшная, конечно же нет, но… как бы это сказать… такая, как другие…
Могу ли я сердиться на родителей? Как упрекать их в том, в чем сам грешен? Я такой же, как они, когда-то меня, как и их, привлекало все, что блестит, и я верил обещаниям витрины, не заходя в магазин. Я был как ночная бабочка, которая теряет рассудок, зачарованная светом, — он такой красивый! — и доверчиво летит на огонь, не задумываясь о том, что может сгореть. Кажется, дело пахнет керосином. А может, от первоклассного блюда мне достаются одни объедки? Стоп, я отвлекся от ужина. Вернемся к нашим Баранам.
Вдруг… почему это они все встали? Еще ведь только-только одиннадцать пробило! А-а-а, понял, дошло! Бараны, должно быть, рано ложатся или спешат вернуться в овчарню к своему стаду.
Я тоже встаю. Благодарности, поцелуи, похвалы последней книжке Беатрис (сколько в ней фантазии!), новому журнальному столику (отличный дизайн!), ужину (объедение, экая вы искусная кулинарка!).
Свою точку зрения по поводу «искусной кулинарки» Беатрис мне объяснила: вовсе она не врет, она никогда не врет, она же не говорит: «Это я приготовила», а гости пусть думают что хотят. Ну, промолчала, но совесть-то чиста: промолчать — не солгать.
Я бы предпочел, чтобы она лгала открыто, мне кажется, что так было бы гораздо честнее.
Бараны уходят.
Я остаюсь.
И поддаюсь соблазну, мне не терпится ему поддаться. Едва за гостями закрывается дверь, я, будто огорченный их уходом, слабым голосом блею:
— Бееее…
— Ага, наконец-то проснулся!
— Но не мог же я блеять за столом…
Она пожимает плечами и закатывает глаза — порядок действий строго соблюдается. Похоже, она это отрепетировала. Впрочем, ей часто приходится упражняться.
— Бенжамен, весь вечер меня одолевали сомнения, жив ты еще или как!
Меня тоже. Вот и доказательство, что у нас много общего.
— Беатрис… мне бы не хотелось, чтобы ты столько говорила о покупке аптеки, это несколько преждевременно…
— A-a-a, вот в чем дело! Вот почему ты так выглядел! Прости, Бенжамен, но я говорила об этом только как о планах и не называла никаких сроков.
Хоть на этом спасибо.
Я убираю, ты убираешь, она убирает, мы убираем… Пока я про себя твержу глаголы во всех лицах, она комментирует вечер, и приходится время от времени кивать. Она права: я уже отчасти покойник. В этом есть положительный момент: заканчивая умирать, я просто перейду на другой уровень, еще один шаг — и мир моему праху. Я успею привыкнуть. Чуть больше умереть или чуть меньше — перемены едва ощутимы.
— Бенжамен, сядь, пожалуйста, на минутку.
— Мы что, уже закончили? Я хочу сказать — все убрали?
— Да… Мне надо с тобой поговорить.
— Сегодня? Я знаю, я должен купить аптеку. Давай поговорим об этом в другой раз. Я смертельно устал…
— Да-да, именно об этом я и хотела с тобой поговорить: с тобой неладно, Бенжамен.
— Хочешь, чтобы я сходил к врачу?
— Нет, я имею в виду состояние психики. Ты всегда не в своей тарелке, у тебя отсутствующий вид, ты витаешь в облаках…
Пока она меня описывает, я не витаю в облаках — я тупо смотрю на свои ботинки. Хм, это уже интересно. Она вовсе не думает, что я пустой, наоборот, убеждена, что я полон, полон до краев — тоской, подавленными желаниями, недомолвками, и все это связано исключительно с моим детством. Полон выше крыши, и она считает, что вот-вот сорвусь.
Может быть. А у кого нет скелетов в шкафу? Мне кажется, у каждого в избытке. Только это не наполняет, а опустошает еще больше.
— Бенжамен, это кризис среднего возраста, это же классика для сорокалетних! Но ты должен взять себя в руки.
Я тут же схватил себя за руку, как в прошлый раз в машине.
— Я не шучу, Бенжамен. Тебе надо кое-кого навестить.
— Кого это?
— Психолога. Для твоего же блага, Бенжамен.
А-а-а… А я-то подумал, она просит меня завязать роман с другой женщиной. Я немного разочарован. Но раз уж надо к кому-то пойти, пусть это будет женщина. Тогда, может, она пошлет меня к женщине-психологу?.. Оказывается, нет! Оказывается, я должен пойти к мужчине. К очень хорошему врачу — и опять же, для моего блага. К доктору, которого ей рекомендовали и который добивается у-ди-ви-тель-ных результатов со своими пациентами. И будет очень жаль, если я у него не проконсультируюсь. Кому будет жаль? Она надеется, что этот тип посоветует мне купить аптеку?
Она навела справки, все узнала по телефону… Беатрис протягивает мне бумажку, на которой все записала: фамилию, адрес, телефон, часы приема и гонорар…
— Позвони ему. Бенжамен!
— А если я его разбужу?
— Да не сейчас, конечно! Но не откладывай.
— Посмотрим…
— Раз ты говоришь «посмотрим», значит, не пойдешь. Так скажи по крайней мере честно, Бенжамен… Ты отвечаешь на то, что я предложила, или просто так говоришь? Ты никогда меня не слушаешь.
Ее голос вдруг затих и стал жалобным, я с трудом могу различить только:
— Меня убивает твое безразличие…
Она смахивает слезу таким восхитительным, таким обезоруживающим жестом, что я мгновенно чувствую себя неловким, грубым и черствым.
Я осторожно, стараясь не сломать, беру руку жены и слегка касаюсь ее губами. Как назло, нужные слова никак не идут на ум.
— Я… Я не хотел… Я не хотел тебя обидеть…
Она повторяет свой изысканный жест. Ей удается так грациозно вытирать глаза тыльной стороной ладони, едва касаясь век. Как она это делает?
Слабеньким — вот-вот надломится — голоском она отвечает:
— Ничего, Бенжамен… Я ведь только для твоего же блага… Делай как знаешь… А я… я уже ничем не могу тебе помочь.
Ее голос совсем угасает, а рука вновь пускается в свой изысканный танец.
Ах, если бы стать ее глазами, чтобы она вот так прикасалась — ко мне.
4
Фрейдистский амулет
Приемная врача — как зал ожидания. Я жду.
В песочных часах — минуты моей жизни, это они медленно, но верно утекают, а я сижу и жду.
Разве мы все и всегда не находимся в зале ожидания? Только песочные часы у каждого свои, и они по-разному наполнены. И зал ожидания у каждого свой. Но все ждут и при этом чем-то занимаются.
Что я здесь делаю?
Нельзя ли мне было подождать в другом месте? Сколько песка в моих песочных часах? А Марион?.. Какой ужас! Марион для меня вечная: я всегда буду знать ее живой, — но я смертен. Я смертен для нее. Я бы умер прямо сейчас, лишь бы заполучить уверенность, что умру раньше нее.
Я вздрагиваю.
И понимаю, что меня окликнули. Я дождался, подошла моя очередь. Разве не так реагируют, когда падает последняя песчинка, в самом конце ожидания, — уже?
Я покидаю зал ожидания; у меня в голове, словно песчинка, крутится ироничная мысль: неужели я умер, даже не заметив этого? А тот, за кем я следую, сам Господь Бог? Если бы мне предложили стать Богом, я бы отказался: слишком большая ответственность. Мало того, что…
Итак, я иду за ним. Он закрывает дверь.
— Садитесь, пожалуйста.
Я смотрю на психолога: серый костюм, седые волосы… Он весь серый. Серый психолог.
У него даже глаза серые. Интересно, он подбирает костюм под свою внешность или, наоборот, внешность меняется из-за костюма? Возможно, раз он одевается в серое, его глаза и волосы посерели, чтобы не отличаться от одежды.
Если бы я был писателем, то ввел бы в роман серого психолога и назвал его Гри-гри[4]. В нем бы все выцвело, все посерело. Не только глаза и волосы, но и цвет лица в конце концов стал бы серым — и внутри он бы тоже был серый. Серая душа, как и все слегка поизносившиеся души, — не черная, но запятнанная, потускневшая душа. Прощай, невинность, здравствуй, грусть… Мысли тоже не черные, но омраченные… И так далее… И чтобы утешиться в этой серости, защититься от нее, предотвратить ее распространение, мой Гри-гри имел бы одну вещицу, которую всегда бы носил с собой, — фетиш, амулет. Чересчур примитивная ассоциация идей[5], сказал бы мой читатель, ну и пусть.

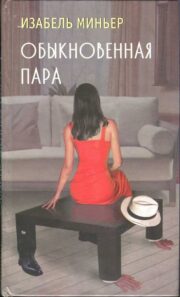
"Обыкновенная пара" отзывы
Отзывы читателей о книге "Обыкновенная пара". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Обыкновенная пара" друзьям в соцсетях.