— Бенжамен, ну что ты стоишь, пойди-ка лучше купи пиццу! Мне надоело готовить! А я пока схожу к соседям за Марион. Ты прав, они очень милые люди, но такие ограниченные… С ними совершенно не о чем говорить.
Я бы предпочел обратное — сходить за Марион, а не за пиццей. Третья пицца за неделю; продавец уже говорит мне «До скорой встречи», а не «До свидания»!
2
Предсказания потолка
Возвращаясь с пиццей, встречаю своего клиента, выгуливающего собаку. Конечно же, он со мной заговаривает, а я, конечно же, ему отвечаю. Он спрашивает, что я думаю о гомеопатии. Исходя из ситуации, думаю, что лично мне гомеопатия может повредить, если начну ее обсуждать. И говорю клиенту, что это долгий разговор и пусть он лучше зайдет ко мне в аптеку. И прошу прощения: у меня пицца остывает, а дома дочка голодная ждет. Он понимает, соглашается: «Да, когда дети голодны, не надо заставлять их ждать, а то потом ничего есть уже не станут. Бегите скорее!»
И я бегу.
— Бенжамен, ну что ж ты так долго? Я уже подумывала, вернешься ли вообще!
На языке вертелось: «Не искушай!» — но вовремя осекся.
— Папа!
Она здесь — с лучезарной улыбкой, со свежей, как весна, мордашкой. Солнышко мое! Беру ее на руки.
— Хорошо поиграла с Софи?
Она рассказывает. Об играх, о ссорах, о примирениях, о полднике, о котенке, который царапается, но не больно, потому что это детеныш… Может, это и не очень интересно, но меня интересует. Очень интересует. Она такая живая, такая цельная, когда рассказывает. Сам я обычно рассказываю о чем-то своем отстраненно, как будто это меня не очень касается. Как будто я зритель собственной жизни.
— А ты как, пап? Магазин хороший?
— Хороший, очень хороший…
Она чмокает меня в щеку. Звучный, слюнявый поцелуй.
Внезапно понимаю, что для нее я — личность. Она не знает… или пока еще не знает?
Я думаю: «Дорогая, кого ты видишь, когда на меня смотришь? Скажи мне, кто я!» Но вслух говорю:
— Марион, а я только что думал о тебе — когда попросил зеленые оливки, а не маслины.
— Ты купил оливки?
— Нет, я купил пиццу на ужин.
— Опять!
Ах ты, лапочка моя, совсем забыла, что надо молчать. Что ж, послушай теперь маму.
— Марион, я вам не прислуга и готовить разносолы не могу. Или я на кухне, или работаю. Если тебе не нравятся книжки, которые я пишу… Если ты считаешь, что мое место — на кухне… Между прочим, многим девочкам очень хотелось бы, чтобы их матери писали детские книжки… Скажи честно — тебе не нравятся рассказы, которые я пишу, Марион, а, Марион?
— Нравятся… Просто пицца немножко надоела.
— Увидишь, сегодня она намного лучше, — шепчу на ухо дочке, — я выбрал «супер-люкс». Тебе точно понравится, любимица ты моя!
— Бенжамен, хватит!
Я изумленно смотрю на Беатрис. Что я такого сделал?
— Кончай так обращаться к Марион! Только инцеста не хватало!
К счастью, Марион уже слезла с моих коленей, иначе я бы ее уронил.
— Бенжамен, я понимаю, что ты не отдаешь себе в этом отчета, но отец не должен говорить дочери «моя любимая». Это обращение к женщине, а не к ребенку.
— Я сказал не «любимая», а «любимица».
— Какая разница! Она слышит, что она — твоя любовь. И всякий психолог скажет, что это опасно. Получается, что она для тебя будто и не дочь никакая, может, ты не имеешь этого в виду, но по тому, как ты с ней говоришь, девчонка вполне может вообразить, что она в твоих глазах — женщина! А у нее как раз период, когда очень силен эдипов комплекс, и сейчас не время сбивать ее с толку.
— Но я имею право ее любить?
— О господи, Бенжамен, как ты все усложняешь! Малейшее мое замечание принимаешь в штыки. Пора нам поговорить — мы все-таки муж и жена, и это для нас жизненно важно! Я… Нет, впрочем… давай поговорим после ужина, когда малышка заснет. Хотя ты же видишь — из меня уже искры сыплются… Мне надо высказаться, пока не взорвалась. Марион, за стол!
Мне вдруг захотелось спать. Захотелось лечь без ужина. Без пиццы, без разговора. Стать только телом, которое спит.
Если уж я сказал, что пицца суперлюкс, восхитительная, — мняяу! разве тебе так не кажется, Марион? — придется съесть кусочек.
Беатрис расспрашивает дочку о своей новой книге. Перед тем как предлагать свои книжки издательству, жена всегда проверяет их на Марион. Это хорошая идея: моя любимица указывает пальчиком на те места, которые дети и взрослые понимают по-разному. Моя душенька…
Они прекрасно ладят друг с другом, когда обсуждают книжки, которые должна отрецензировать Марион. Беатрис очень внимательно, не перебивая, слушает нашу девочку, ей важно все, что малышка скажет. А меня их журчание успокаивает: голоса — будто тихая музыка, так приятно…
И вдруг… Сегодня особенный день, сегодня — день великих открытий. Внезапно я все понимаю. Это же очевидно, это же яснее ясного: Беатрис работает.
Любой при виде этой сцены сказал бы: ничего особенного, мама с дочкой мило беседуют, живо, весело, — но… надо бы предостеречь зрителя от поспешных суждений. Тут совсем другое происходит. Идет работа: Беатрис оттачивает свой рассказ, вносит изменения. Эта женщина не ужинает — она правит текст. А Марион ей помогает, хотя и не знает этого. Ну вот, я только что испортил себе один из редких моментов передышки.
Поскольку разговор не со мной — Беатрис интересует мнение ребенка, а не мое, — задаю вопросы себе самому.
С каких пор? С каких пор внутри у меня так пусто? Правда, может быть, не совсем пусто: ведь есть же Марион… Я почти пустой. Но как это вышло? И как я мог этого не заметить?
— Выйдешь из-за стола, Бенжамен, или тебя обслужить?
Ну вот, как только что в машине, я и не заметил, что мы приехали… то бишь закончили ужинать. За столом тоже не я у руля. А когда я бываю у руля?
Когда со стола все убрано, а Марион помыта под душем и готова залезть под одеяло, наступает время сказки. Маминой сказки, которую читает мама. Я очень плохо читаю сказки, я стараюсь читать их на разные голоса, забывая об идее (об идее автора, если я правильно понял), а главное — идея.
— Господи, Бенжамен! (Смех.) Это же не рецепт!
Раз я плохо читаю, то я и не читаю, разве что в те вечера, когда мамы нет дома.
Сегодня вечером Беатрис читает «Писи-каки». Эту историю Марион знает наизусть. Меня от нее тошнит. «Писи-каки»… Ну ладно, мне не слишком нравится эта книжка: тут явно в избытке писи, в избытке каки, — но она нравится детям. Похоже, я утратил детское восприятие, осталась только привычка повиноваться. Далеко не лучшее, что могло остаться от детства.
Читает Беатрис, а мне разрешено сидеть на кровати — это мое место. И слушать — моя обязанность.
Только я не слушаю. Я думаю о том, что меня ждет потом. Сжимаю своей лапищей махонькую ручку Марион и обнаруживаю в голове ужасную мысль: солнышко, а ты не можешь притвориться, что чуть-чуть приболела?.. Совсем чуть-чуть, тогда я смогу отменить сегодня все дела и ухаживать за тобой. Когда ты болеешь, я у руля.
Нет, не болей, моя радость, а то ведь получится, что от моей гнусной мысли ты и заразилась. Нет, ты спи, спи спокойно, моя птичка, папа что-нибудь придумает. Твой папа… твой пустой отец. А чем заполняют пустого отца? Пиццей. Рассказами про писи-каки. Журнальными столиками. Иногда я вот так бормочу себе под нос бог весть что. Наверное, чтобы заполнить пустоту.
Я смотрю на потолок, разглядываю тени на потолке. Это мой тест Роршаха[1]. Или моя кофейная гуща, мой хрустальный шар. Я вижу, как вырисовывается ожидающий меня вечер. На потолке все написано.
Вон там тень удлиненная, похожая на растянутую жвачку, изжеванную, лишившуюся всякого вкуса, эта тень — наш разговор в гостиной. Рядом с журнальным столиком.
«Бенжамен, ты не в порядке». — «Нет, нет, я в порядке». — «Знаешь, под конец Одиль с Орельеном жили ужасно: Орельен ни в чем с ней не соглашался, потому Одиль и ушла; для Орельена это было ужасно: дети для него все; конечно же, она добилась, чтобы дети остались с ней, Одиль знает, чего она хочет, а у него теперь депрессия, Орельен утратил вкус к жизни; конечно же, два уик-энда в месяц — это мало, но таков закон; если бы он вовремя взял себя в руки, мог бы этого избежать; Одиль его предупреждала, но он ничего не понял или неспособен был измениться, — ты меня слушаешь, Бенжамен?» — «Да-да, слушаю… Чего ты от меня хочешь?» — «Чтобы ты встряхнулся, Бенжамен! Сколько можно жить на зарплату! Вложи деньги! Купи аптеку! Даже твой отец тебе это говорит. Ты будешь сам себе хозяин, перестанешь быть на посылках у этой жирной свиньи: Бенжамен, сделай то, Бенжамен, сделай это, — а ты молчишь, покорно все исполняешь, не знаю, как ты это выносишь… лично я бы не выдержала, если бы мной командовала эта жирная свинья». — «Беатрис, я думал об этом, но я еще не готов; возможно, когда Марион вырастет, мне будет легче вернуться к этой мысли, а пока я не хочу приходить с работы домой, когда она уже спит, не хочу сидеть все выходные над бумажками, я хочу проводить время с ней». — «Бенжамен, ты боишься ответственности; ты хочешь не хозяйничать в аптеке, а только продавать лекарства». — «Мне нравится то, что я делаю, вовсе не стыдно быть продавцом; между прочим, ты ведь продаешь свои рассказы о писях и каках, и успешно их продаешь, но разве тебя можно назвать продавщицей?» — «Скажи прямо, что я пишу дерьмо!» — «Я такого не говорил!» — «Но подразумевал! Если ты презираешь мою работу, хотя бы наберись смелости сказать это мне в глаза!»
И так далее и так далее. Не меньше часа. Вытянутая тень на потолке предвещает мне целый час бессмысленных споров.
Раз двадцать… да, раз двадцать мы уже так спорили, раз двадцать, не меньше. Я не хочу покупать аптеку. Но я хочу жить вместе с Марион. Как будто одно противоречит другому…

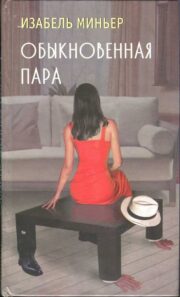
"Обыкновенная пара" отзывы
Отзывы читателей о книге "Обыкновенная пара". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Обыкновенная пара" друзьям в соцсетях.