На площадь в Ситэ падала тень от величественного собора Богоматери. Здесь с самого утра собралась толпа желающих поглазеть на свадебный кортеж. Тут были разряженные буржуа с супругами и выводками ребятишек, подмастерья, веселые студенты, улизнувшие ради такого дня с лекций и диспутов, солдаты, монахи, нищие, калеки. В толпе сновали торговки с корзинами на головах, предлагали свой товар бродячие продавцы индульгенций. Из окрестных улочек стекались новые потоки любопытных, а окна домов на площади, вплоть до чердачных, заполнились зрителями. Нашлись смельчаки, которые вскарабкались на крыши и даже на лепные украшения Нотр-Дама.
Филип Майсгрейв оказался на площади, когда там уже негде было яблоку упасть. До семи вечера, когда они договорились встретиться с Кревкером, он был свободен и решил, как и все, поглядеть на бракосочетание, хотя прежде всего его влекла сюда надежда увидеть Анну.
Ближе к полудню на площади появились отряд алебардщиков в королевских мундирах и внушительный отряд городской стражи. Они бесцеремонно раздвинули толпу, образовав посередине широкий проход. Слуги покрыли его алым сукном до самого входа в собор. Невзирая на то, что никто из знатных особ еще не показывался, толпа так напирала, что стражникам пришлось развернуться в цепь и усердно поработать древками пик и алебард.
Не обращая внимания на раненое плечо и летевшую со всех сторон брань, Филип протолкался поближе к паперти и оказался в первых рядах зрителей.
Наконец со стороны Луврского замка раздался пушечный залп. Толпа загудела.
– Началось!
Стражники продолжали сдерживать толпу. Гул нарастал, и вдруг донеслись пронзительные крики:
– Едут! Едут! Вон они!
Кортеж золоченых портшезов и великое множество всадников в сопровождении охраны показались в конце улицы Сен-Пьер-о-Беф. С крыш домов, как снег, посыпались цветы, грянула музыка. Парижане с восторгом глазели на знать, на лучшую кровь королевства, на роскошь и блеск, атлас и бархат, на прозрачные вуали дам, на драгоценные каменья, сверкавшие, как звезды, на дорогие попоны коней, касавшиеся золотой оторочкой или меховой опушкой уличной грязи.
– Король! – кричала толпа. – Смотрите, король! Да здравствует наш добрый государь Людовик!
Женщины махали платками, мужчины подбрасывали вверх колпаки. Не обошлось и без слез умиления при виде монарха.
Филипу Майсгрейву был хорошо виден Людовик Валуа. После блистательного Эдуарда Английского этот монарх показался ему особенно неказистым. Он был невелик ростом, кривоног и сутул, лицо короля имело землистый цвет, а черты его были чересчур резкими. Обычно Людовик одевался просто, но сейчас был облачен в алые турские шелка. Король шел, едва заметно улыбаясь, и, ни на кого не глядя, вел за руки жениха и невесту.
Принцессе Боне уже исполнилось двадцать четыре года. Для невесты это был критический возраст, но Бона, будучи постоянно чьей-то невестой, до сих пор так и не предстала перед алтарем ни с кем из претендовавших на ее руку вельмож.
Сегодня был ее день, однако бледное личико принцессы от этого отнюдь не выглядело счастливее. Оно сохраняло печальное выражение, хотя принцесса и шла с гордо откинутой головой. Бона не была хороша собой: крупный, выступавший нос отнюдь не красил принцессу. Однако осанка ее была поистине королевской, фигура, насколько можно было различить под складками парчи и шелка, – изящной.
Филип услышал, как кто-то за его спиной проговорил:
– Говорят, бедняжка проплакала ночь напролет. Зачем ей этот Бурбон, если она мечтала обвенчаться с красавцем Эдуардом Уэльским?
– Глупа, как и все женщины. Жан Бурбонский несметно богат, и на его владения никто не зарится. А принц Эдуард живет чужой милостью, и одному Господу известно, когда он нацепит свою корону, если нацепит ее вообще.
Герцог Жан шествовал по левую руку от короля. Он казался гораздо старше своей невесты и уже начинал толстеть. Его волосы были тщательно завиты и уложены так, чтобы прикрыть намечающуюся лысину. Чело жениха было омрачено – видимо, мысль о том, что ему пришлось пойти наперекор воле своего давнего друга и союзника Карла Бургундского, не давала ему покоя.
Плыл нескончаемый колокольный звон, толпа возбужденно гудела, пожирая глазами длинную процессию знати и духовенства. Парижане обожали зрелища и пользовались возможностью посудачить о каждом из проходивших мимо.
– Взгляните, вот и королева Шарлотта! Уже оправилась после родов, однако все еще бледна.
– Добрую государыню даровал нам Господь!
– А какого наследника она принесла Франции! Девять с половиной фунтов, не меньше, говорят.
Рядом с королевой вели двух нарядных девочек, ее дочерей – румяную резвушку Анну, будущую правительницу Франции, и некрасивую, чуть прихрамывающую принцессу Жанну, которой суждено было окончить свои дни в одном из монастырей.
– Глядите-ка, приехала даже Иоланта Савойская, старшая сестра Боны, и ее супруг Амедей Савойский. Но до чего же она изменилась! А ведь это была самая хорошенькая из французских принцесс. Сейчас же что кусок мяса – ни дать ни взять.
– А что это за расфуфыренный мальчонка в белом шелке? Паж этой красивой дамы в желтом?
– Да что вы, сударь! Эта дама – вдовствующая герцогиня Орлеанская, а мальчик – ее десятилетний сын. Поговаривают, от пострела уже сейчас нет проходу молоденьким горничным, но то ли будет, когда он подрастет!
Так толковали зеваки о том, кому со временем предстояло взойти на престол Франции под именем Людовика XII. В болтовне парижан равно смешивались обожание, злословие и фамильярность. Они обсуждали принцев крови и первых вельмож с той же бесцеремонностью, что и соседей по кварталу, но богатство и блеск знати вызывали в их простых душах еще и волну преклонения, ибо все эти сановные господа были существами иного порядка, от чьих прихотей и страстей зависели подчас судьбы страны и трона.
– Вон идет достойный граф де Кревкер, который представляет здесь Бургундию. Потому-то он и держится так надменно.
– Он всегда таков. Рядом с ним любимчик Карла Смелого Кампобассо выглядит как лакей, хотя и наряжен в золотую парчу с головы до ног.
Прибывали и спешивались все новые вельможи. Они горделиво проходили среди толпы, поднимались по ступеням собора и исчезали в широких готических воротах.
Появился герцог Рене Анжуйский, престарелый трубадур, именовавший себя также королем Сицилии и Иерусалима. В толпе послышался изумленный ропот. До чего легкомыслен этот король-поэт, до чего самоуверен! Мало того, что в свои преклонные годы обрядился в куцый камзол и узкие двухцветные штаны, да еще прихватил с собой худородную супругу. Разумеется, эта Жанна де Лаваль прехорошенькая, но ведь в ней нет и унции благородной крови. Обольстительная мелкопоместная дворяночка, вскружившая голову старику и затесавшаяся в королевскую семью с помощью постельных интриг. Хотя что там говорить! В Англии король выкинул коленце похлеще – столь же неродовитую даму возвел на престол, и, представьте, народ не взбунтовался и даже охотно признал эту Елизавету Вудвиль своей королевой. Нет, видно, Господь окончательно помрачил разум островитян, если их настоящая государыня томится в изгнании, а они склоняются бог весть перед кем. Маргарита Анжуйская – вот в ком течет чистейшая королевская кровь. Ничего не скажешь – монархиня от подошв до кончиков волос.
Когда в толпе заговорили о королеве Маргарите, Филип отыскал ее взглядом. Он был наслышан о ней. В Англии эта женщина стала легендой, ее в равной мере почитали и враги, и друзья. Теперь ему предстояло воочию увидеть королеву.
Маргарита Анжуйская легко ступала вслед за своим отцом, королем Рене. Она резко выделялась среди пестрой толпы своим черным траурным одеянием. С ее эннена едва не до земли спускалась черная креповая вуаль. Лицо королевы, некогда прекрасное, постарело раньше времени: сказались тяготы скитаний и годы изгнания.
Черные бархатные глаза Маргариты равнодушно взирали вокруг. Это был не ее триумф, она оставалась всего лишь гостьей, равной среди равных, что не соответствовало ее сану, ибо она была помазана миром. Была королевой, дело которой – повелевать, а не просить милостей у кузена Людовика. Казалось, сознание этого унижает ее, и выражение мрачной сосредоточенности не покидало ее чела.
Маргарита была невысока ростом, но держалась прямо и горделиво. Ее голова была откинута с непередаваемым достоинством. Даже Майсгрейв не мог не признать, что более гордой осанки, более презрительного высокомерия ему не доводилось видеть. И как ни хороша собой Элизабет Грэй, ей никогда не суметь так нести свое королевское достоинство.
В толпе судачили:
– Маргарита снова в черном. Говорят, она дала обет не снимать траура до тех пор, пока ее супруг, король Генрих, не выйдет из Тауэра.
За Маргаритой следовал ее сын Эдуард в оранжевом атласном камзоле до бедер, на который были нашиты черные бархатные львы с глазами и когтями из изумрудов. Голову его венчала шляпа наподобие широкого валика с массой пестрых драпировок, ниспадавших на плечи. Эдуард Уэльский совершенно не походил на свою мать, однако он был настоящим Ланкастером, белокурым и сероглазым, как все мужчины в этом семействе.
Филип пригляделся к принцу – вот тот человек, что отныне занял его место в сердце Анны. Он нашел, что принц недурно сложен, но лицо его показалось Майсгрейву капризным и слащавым. Впрочем, парижские мещанки были просто в восторге от юного Ланкастера.
– Ах, принц Эд! Как хорош! Какой персиковый румянец, какие ресницы, какая улыбка!..
Эдуард оказался совсем близко, и рыцарь видел, насколько тот похож на своего отца, Генриха VI, – тот же прозрачный отсутствующий взгляд и безвольная складка у губ. Наверное, Маргарита хотела бы видеть в этом улыбчивом принце больше твердости и мужества, но, как бы там ни было, принц – наследник Ланкастеров и ее надежда на престол.
В то же мгновение Филип увидел и Уорвика. Еще в Англии ему доводилось встречать Делателя Королей, и сейчас он тотчас узнал эту высокую прямую фигуру, эту красиво посаженную голову, эти светло-зеленые миндалевидные глаза. Сейчас взгляд графа был спокоен и благожелателен, как у льва, отдыхающего после охоты. Высокий лоб и горделивый разлет бровей – все как у Анны.

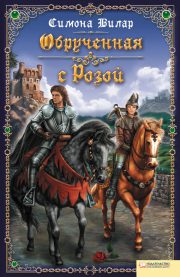
"Обрученная с Розой" отзывы
Отзывы читателей о книге "Обрученная с Розой". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Обрученная с Розой" друзьям в соцсетях.