— Брайан, — спросила она, вернувшись в «Амбассадор», — как отправить эту громоздкую кучу в Америку?
— Так же, как мы отправляем туда громоздкие предметы искусства. Предоставьте это мне, миссис Андерсен.
— Подождите. Еще одна вещь. — Она исчезла в кабинете и вернулась через минуту с запечатанным конвертом. — Все это должно быть отправлено по этому адресу. Щит, художественные пособия и письмо: «Мои дорогие Пенни и Клифф! Я думаю, о вас и скучаю, и каждый раз, когда я закрываю глаза, я вас ясно себе представляю. Я не могу дотянуться через океан и обнять вас, вместо этого я посылаю вам подарки, которые обещала. Я вас люблю обоих».
И записка для Гарта:
«Что бы ты ни решил рассказать Пенни и Клиффу, пожалуйста, разреши им принять подарки. Я больше не буду им писать и посылать, что бы то ни было еще, если только ты мне не позволишь. Но я обещала послать им подарки сразу, как приеду в Лондон. Пожалуйста, разреши мне выполнить свое обещание. Это последняя моя просьба».
Больше она ничего не могла сделать для своей семьи, только томиться по ним и ждать, когда боль разлуки притупится. Но она забыла о своей матери.
Лаура позвонила в субботу днем, когда Сабрина и Габриэль собрались идти покупать свадебное платье.
— Стефания, что, во имя неба, происходит? Гарт говорит, что ты остаешься в Лондоне на неопределенное время. Что все это значит?
— То, что сказано, то и значит, мама. Я теперь живу здесь.
— А Гарт и твои дети?
— Мама, ты же знаешь ответ. Они в Эванстоне.
— Ты оставила своих детей?
— Я оставила… Да. Они с Гартом.
— Ты от него ушла?
— Да.
— На какое время?
— На какое… сколько понадобится.
— Понадобится! Чтобы что сделать? Уничтожить чудесный брак, прекрасный дом и жизни двух…
— Пожалуйста, мама, не надо…
— Почему не надо? Ты понимаешь, что ты бросаешь? Лучшего…
— Мама, перестань. Пожалуйста! Гарт и я, мы оба решили, что мне надо уехать. Нам и так хватило боли, не надо, чтобы еще ты добавляла. Может быть, когда-нибудь я смогу рассказать тебе всю историю, но сейчас не могу. Тебе просто надо мне поверить в то, что я делаю все правильно.
— Стефания, — сказал Гордон по параллельной трубке. Его голос был еле слышен. — Ты больше не любишь Гарта?
«Я люблю его всем сердцем. Я люблю его все больше с каждой минутой, каждым воспоминанием, которые преследуют меня длинными бессонными ночами».
— Существуют такие проблемы, о которых я не могу говорить, — ответила она. — Вам необходимо поверить. Жаль, что я доставила вам столько огорчений…
— И еще так скоро после Сабрины! — воскликнула Лаура. — Ты могла бы подождать и не наносить нам сразу второй удар.
— Да, мама. Я об этом не подумала. Я прошу прощения.
— Мне не надо твоего сарказма…
— Что ты будешь делать, — прервал ее Гордон, — одна в Лондоне?
— Я вошла в партнерство с Николсом Блакфордом, чтобы управлять «Амбассадором», Я оставляю себе дом Сабрины, заведу друзей, создам новую жизнь.
— Ужасно, — простонала Лаура, — ужасно. Последнее, чего мы могли ожидать. Мы были так в тебе уверены.
— Да, знаю. Мне очень жаль. Я вас подвела.
— Но ты ведь, конечно, вернешься. Ты все обдумаешь и потом вернешься к своей семье. Женщины сейчас так поступают, об этом все время читаешь где-нибудь: кто-то, кто была, казалось, совершенно счастлива, вдруг поднимается и решает, что ей нужно жизненное пространство, неизвестно только, что это такое. Большинство из них имеет в виду, что хотят любовника. Ты этого хочешь?
— Нет.
— Что ж, если тебе это надо, заведи его, переболей, потом выбрось из головы и вернись к семье. Если ты не ищешь любовника, чего ты ищешь? Карьеру? У тебя была карьера, это маленькое заведеньице, как оно там называлось, «Коллекция»? Ты что, ищешь новую карьеру?
— Нет.
— Тогда чего добиваешься? Чего ты хочешь достичь, живя в доме Сабрины и занимаясь ее магазином? — Сабрина не отвечала. — Стефания? Стефания? Ты пытаешься притвориться, что ты Сабрина? Я помню, как ты все говорила о ее блестящей жизни в Лондоне, ее успехах… И я, помнится, поощряла тебя… Ты это хочешь сделать? В конце концов, после всех этих лет превратить себя в Сабрину?
— Мама. — Голос Сабрины невольно звучал не то рыданием, не то смешком. — Я пытаюсь быть собой.
— А ты знаешь, кто ты такая? — спросил Гордон.
— Не всегда, — ответила она, — но пытаюсь узнать.
Как просто это прозвучало: «Пытаюсь узнать».
«И я узнаю, — сказала она себе на следующий день, когда взяла-таки и поехала на Кенсингтонское кладбище. — Это займет немного времени».
Она медленно подошла к маленькому холмику земли, на месте, где они все недавно стояли. Кладбище, как и помнилось ей, было серым и мокрым, оно будто расплывалось в тумане, смягчавшем и менявшем очертания надгробий. Капли дождя на листьях, прозрачные, как слезы, и лужицы на дорожках, как зеркальца, отражавшие стремительный бег облаков, серые на сером.
Она стояла у могилы, позволив воспоминаниям свободно течь, сплетаться и расплетаться: детство, школьные годы, «Джульетты», визиты в Нью-Йорк, поездки в Лондон, две сестры — всегда рука в руке. Но скоро промозглая сырость пробралась ей под пальто и костюм. Она начала дрожать и, повернувшись, зашагала прочь. Около ворот из ожидающей машины вышел высокий мужчина.
— Ваша домоправительница сказала мне, что вы здесь, — произнес Дмитрий. — Можно мне отвезти вас домой?
Она посмотрела на его худое лицо, темные глаза под редкими бровями, глубокие морщины по обеим сторонам твердого рта. Его рука была протянута к ней, чтобы помочь ей сесть в машину. Она помнила мальчика, заставлявшего себя быть храбрым, пока люди в тяжелых сапогах обыскивали его комнату и грохотали ими по крышке погреба, где он прятал двух американских девочек. «Он хочет защитить меня», — подумала она. Но глаза его смотрели мягко и ненавязчиво. Он предлагал дружбу.
— Да, — ответила она, — мне хочется, чтобы меня подвезли домой.
Глава 22
Никто не встретил самолет Гарта из Нью-Йорка. Никто не ждал его еще два дня. Он уехал из отеля во вторник рано утром, сообщив Рольфу о том, что не будет на совещании исполнительного комитета, и улетел первым самолетом в Чикаго. Он не выспался, и от усталости все казалось ему каким-то чрезмерным: слишком громким, слишком ярким, голоса резко отражались от стен и пола. Но дома, когда он отпер дверь и вошел внутрь, тишина буквально подавила его. Пустой дом. Пенни и Клифф в школе. Его жена мертва. Самозванка в Лондоне. Пустой молчащий дом.
Он стоял посреди кухни и не знал, за что браться. Казалось, ничего из того, что приходило ему в голову, не стоило делать. Он оглядел аккуратную кухню, посмотрел на диван и низкий столик, на котором рисунки Пенни лежали рядом с книжкой, которую читала Стефания, на стол, где они завтракали. В его памяти ярко встала картина: поздний вечер, в доме тихо и темно, Пенни и Клифф спят, а они со Стефанией сидят за круглым столом и едят тыквенный пирог с одной тарелки.
— Нет! — закричал он. И долгий, отчаянный крик эхом пронесся по всем пустым комнатам. Схватив книжку со стола, он швырнул ее в стенку. Страницы затрепетали, когда она упала на пол, а Гарт рухнул на диван и заплакал, вспоминая свою жену и свой разбитый вдребезги мир.
В изнеможении он заснул, а когда проснулся, было темно. Он растерянно нащупал выключатель и, посмотрев на часы, обнаружил, что еще только пять. Он дрожал. Уходя, они уменьшили отопление, и теперь дом остыл. Он опять вспомнил все, что произошло, и почувствовал, как снова гнев наполняет его, расходится по всему телу холодным вязким веществом, неотделимым от его крови, ее потока, ее пульсации в его сердце, ее шума в ушах. Он должен был двигаться, действовать, чем-то занять свой ум.
— По крайней мере, будем практичны, — сказал он громко и позвонил Вивьен, чтобы рассказать ей о том, что совещание оказалось короче, чем ожидалось, и он заберет Пенни и Клиффа в течение часа.
— Приходи к обеду, — настаивала она, — и расскажи нам о Нью-Йорке.
— Не сегодня. Давай отложим это.
— Тогда дай своим отпрыскам поесть до того, как заберешь их. Они помогали мне готовить еду, и я считаю, что теперь должны ее попробовать.
— Ладно. В восемь часов?
— В восемь. Гарт, чтобы у тебя ни произошло, поешь с нами. Ты почувствуешь себя лучше.
Значит, его состояние можно было понять по голосу. Что ж, как же иначе? Сколько гнева может человек носить в себе до того, как он выльется на общее обозрение?
Он распаковал, веши, умылся, сменил рубашку и быстро выпил две рюмки виски. Вновь наполняя водой форму для заморозки льда, он увидел, что холодильник полон. Какая внимательная! Эта стерва хорошо о них позаботилась перед тем, как отправиться в полет на свои европейские пастбища.
Он метался по дому, мысли дико разлетались во все стороны как обломки от взрыва. Ничего не осталось целым, ничего не было устойчивого. Почему он не заподозрил обмана? Он снова и снова в который раз обдумывал все сначала, пытаясь понять, как мог он так промахнуться. Оглядываясь на прошедшие дни, вспоминая ее оговорки и быстрые поправки, нетипичное поведение, провалы в памяти, он не мог понять себя. Он же был тренированный наблюдатель, человек, который умел собирать факты и их анализировать. Почему он так легко обманулся? Он не знал. Все это было каким-то бредом. Ему не за что было ухватиться, только разве за дом и детей, и поэтому он должен был поскорее их увидеть. Они были единственным, в чем он мог не сомневаться.
Он отправился к Гудманам, медленно ехал по заснеженным улицам и повторял про себя, репетируя:
«Я должен кое-что рассказать вам двоим. Это нелегко и не очень приятно… Сядьте оба, я хочу поговорить с вами о вашей матери… Я должен вам рассказать, что некоторое время назад с вашей матерью произошел несчастный случай… Нет, не на велосипеде, другой несчастный случай, на яхте, в Европе. Видите ли, женщина, которая жила здесь, с которой произошел несчастный случай на велосипеде… Женщина, которая жила здесь и дурила нам голову, смеялась над нами, над тем, как мы ее любили, как мы в ней нуждались, а она играла с нами в игру…»

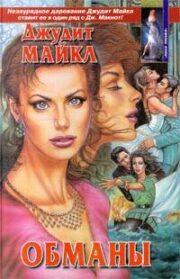
"Обманы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Обманы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Обманы" друзьям в соцсетях.