Он слегка улыбнулся.
– Что мне нравится в американских женщинах – это их агрессивность и напористость. Это по мне.
– Послушайте, – сказала я, бросая взгляд на Криса, который прислонился к стойке бара, – я должна успеть это сделать, пока не стемнело.
– Вот как, – сказал он, трогая пальцами свой ус, – а разве вечером этого нельзя сделать?
Я уже начала задыхаться.
– Нет, нельзя! – сказала я, показывая на Ринглера. – Ему нужен свет, иначе он не сможет снимать.
На лице человека отразился ужас.
– Так вы хотите это снимать?! – прошептал он.
Я поправила рукой волосы и изо всех сил старалась сохранять спокойствие.
– Послушайте, это моя работа, я должна ее сделать. Мне это нужно не больше, чем вам. Поэтому не будем зря тратить время. Да или нет? Мы начинаем прямо сейчас, или я немедленно ухожу. И я скажу где надо, что вы нарушили свое обещание, что ваше слово ничего не стоит…
– Нет, нет, никогда! Я не стану этого делать!
– Крис, – позвала я, – подойди, пожалуйста, сюда!
Крис неторопливо приблизился.
– В чем дело?
– Наш друг не хочет держать своего обещания. Он отказывается, чтобы мы его снимали. Что будем делать?
– Прошу вас, – воскликнул человек, покрываясь густой испариной, – я не хочу никаких неприятностей. Обещаю вам, вечером мы сделаем это, но только за деньги и без съемки.
Он полез в карман и вытащил несколько скомканных купюр.
Крис положил мне руку на плечо и пробормотал:
– Погоди, Мэгги. Мне кажется…
– Нет, Крис, – не унималась я, – никаких погоди! – Я ткнула пальцем в лицо человека, которого уже трясло как в лихорадке, и продолжала со злостью:
– Мне не нужны ваши деньги. Если вы забыли, о чем мы с вами договаривались, то я вам это напомню, Рашид!
– Рашид? – повторил он. – Какой Рашид?
В этот самый момент к нему подошла черноволосая женщина. У нее были туфли на высоченных каблуках. Она взяла под руку моего маленького и смуглого собеседника, который, однако, не хотел отзываться на имя Рашид.
– Мустафа, – обратилась она к нему развязным тоном, – как насчет того, чтобы немного поразвлечься?
– Ох, Крис… – пробормотала я, падая в кресло. – Я совершенно потеряла голову!
Но он меня не слушал. Он хохотал так, что едва не валился с ног. Не успела я прийти в себя, как другой маленький и смуглый человек положил мне руку на плечо и сказал:
– Я – Рашид.
Он был похож скорее на Джорджа Гамильтона, чем на какого-то Рашида. На нем был синий блайзер, серые брюки, голубая рубашка с расстегнутым воротником. У него были чрезвычайно густые и курчавые черные волосы и исключительно белые зубы. Такая внешность могла бы, пожалуй, приносить ему сто тысяч дохода в год, если бы он избрал карьеру в Голливуде, снимаясь в роликах, рекламирующих зубную пасту, а не растрачивал себя по пустякам в этой самой ООП.
– Значит, мы не увидимся сегодня вечером? – шепнул мне Мустафа, воспользовавшись моментом, пока его приятельница вышла из зала.
– Нет, Мустафа, – устало ответила я. – Разве что вы взорвете какой-нибудь автобус.
Рашид показался мне типичным представителем эдаких конфетных террористов, которых специально муштруют для телевидения, чтобы тронуть сердца телезрительниц во всемирном масштабе. Он вытащил тяжелый серебряный портсигар, достал сигарету и закурил, щелкнув увесистой золотой зажигалкой. Его наглые голубые глаза с тяжелыми веками пристально меня изучали. От него требовалось одно: в точности исполнить пожелания Ай-би-эн.
– Вот что, Рашид, – начала объяснять я. – Ай-би-эн хочет, чтобы мы сняли настоящего борца за свободу. Человека, который действительно сражается, а не упражняется в риторике, словно на филфаке университета.
Рашид обольстительно улыбнулся, как бы давая понять, что уже одно то, что он так великолепно одет и сверкает изумительными зубами, должно убедить меня в том, что передо мной не обычный экземпляр и что речь идет не о стандартном наборе душещипательных сцен для телезрителей, охочих до кровавых зрелищ, за которыми высунув языки гоняются западные журналисты.
– Теперь послушайте меня, – сказал он на безупречном английском. – Вы делаете интервью с моим братом. Только благодаря мне он согласился говорить с вами. Я разрешил ему это. Если сейчас вы передумали разговаривать со мной, хотя вы убеждали нас, что это нужно вам для вашего репортажа, ничего страшного. Просто скажите, что передумали.
– Не совсем так, Рашид. Вот что я хочу объяснить, – сказала я, потянувшись и взяв его холеную руку, – мне нужен человек, руки которого действительно в крови. Человек, который действительно работает для революции, а не занимается болтовней.
Рашид молчал.
– Другими словами, мне нужен человек, который убивал ради идеи – как ваш брат. Вот почему, к сожалению, у нас сегодня вряд ли что получится с вами.
– Зачем ходить вокруг да около, Саммерс, – саркастически заметил Крис, сдвигая на лоб свою широкополую «Индиану Джонс», – почему бы не поговорить начистоту?
Мы вышли на улицу. Пронзительно светило солнце. Мы брели по грязной мостовой по дороге, ведущей к старому городу, и Рашид рассказывал нам о своей жизни.
– Я вступил в Ашбаль, палестинскую молодежную организацию, когда мне было четырнадцать. Там меня научили обращаться с ручным гранатометом. Я был мальчиком-гранатометчиком.
Крис бросил на меня многозначительный взгляд. Он разбирается в таких вещах. Ему хорошо известно о мальчиках, которых бросают на передний край с гранатометами, чтобы они палили в любую движущуюся цель, какая только обнаружится в радиусе одной мили. Такой целью оказался Валери…
– А что чувствуют родители, дети которых занимаются этим делом?
– Они готовы пожертвовать даже своими детьми, если это нужно для освобождения родины.
Мы нашли пустую скамейку неподалеку от «Стены Плача». Рядом с нами на траве расположилась группа французских туристов.
– И чем же вы занимаетесь теперь, Рашид? – спросила я.
– Я преподаю химию в Рамаллахе на Западном берегу, – отвечает он, подставляя лицо солнечным лучам.
– Вы говорите – химию? – спросила я, чувствуя тошноту.
Он улыбнулся.
– Я учу ребятишек, как получать нитроглицерин.
– А зачем он нужен?
Мое сердце едва не выскакивает из груди.
– Для детонаторов, – терпеливо объясняет он. – Мои ученики могут взорвать дом, несколько автомобилей или даже целое военное поселение.
– Или, например, пассажирский автобус где-нибудь между Хайфой и Тель-Авивом, – мягко добавляет Крис. – Правильно, Рашид?
Тот пожал плечами и снова подставил лицо солнечным лучам.
– Значит, это правда, – настаиваю я. – Вы изготовляете взрывчатые вещества?
Он даже не шевельнулся. Когда он заговорил, казалось, его губы лениво вздрагивают, нехотя выпуская слова.
– Вообще-то, я просто сижу и греюсь на солнышке. Меня не уличили ни в чем преступном. Почему же вы пытаетесь это сделать?
– Я вас не обвиняю, Рашид. Я просто удивляюсь тому, что вы…
– Что я изготовляю взрывчатые вещества, которые уничтожают автобусы? – доканчивает он за меня.
Он вперил в меня немигающий взгляд. Его губы сложились в жесткую линию. Я почувствовала головную боль.
– Так вы это сделали? – спросила я едва слышно. И вместо ответа получила только улыбку.
– Передайте привет моему брату, – сказал он, вставая.
Он удаляется ленивой походочкой, но вдруг останавливается и, подняв вверх сжатый кулак, восклицает:
– Революция или смерть!
Иерусалимская тюрьма представляла собой несколько одноэтажных каменных зданий, окруженных довольно высокой оградой. Здесь располагалось центральное полицейское управление, где содержались преступники, как военные, так и уголовные, в ожидании судебного приговора.
Максуд, брат Рашида, сидел в одной из небольших комнаток для свиданий. Наручники на его руках были защелкнуты не за спиной, а впереди – так, чтобы он мог курить во время интервью. Крис снимал, а Максуд, почти не слушая моих вопросов, сыпал банальными революционными фразами.
– Израильтяне убивают наших детей.
– Ваш брат передавал вам взрывчатку для взрыва автобуса?
– Нас не заставят прекратить борьбу за освобождение Палестины.
– Вам не кажется несправедливым то, что вы находитесь в заключении, а ваши лидеры ведут шикарную жизнь, владея виллами на Ривьере?
– Марксизм – вот наше оружие.
– Нельзя ли найти мирное решение конфликта?
– Мы готовы умереть за нашу родину. Мы будем бороться до тех пор, пока не изгоним оккупантов с нашей земли.
– У вас есть какая-то надежда, что вас освободят? Только после этого вопроса он перестал сыпать революционными лозунгами и посмотрел прямо в объектив.
– Да, – сказал он, отчетливо выговаривая каждую букву, – израильтяне говорят, что меня освободят, если будет достигнута договоренность с противоположной стороной.
Максуда увели обратно в камеру, а Крис и я обменялись печальными взглядами.
– Он производит устрашающее впечатление, – сказала я после минутного молчания.
– Он ничуть не хуже его брата, который гуляет на свободе, – ответил Крис, укладывая аппаратуру.
Мы вернулись в студию и остаток дня занимались тем, что монтировали материал. Ринглер образно назвал наш репортаж – «несколько минут в преисподней». В шесть тридцать вечера я наконец приехала в отель «Царь Давид». Ави дожидался меня на веранде, сидя под пестрым желто-зеленым зонтиком за крайним столиком.
На веранде было полным-полно туристов. На женщинах были соломенные шляпки с широкими полями, узкие юбки и цветастые блузки навыпуск. Они крепко держали за руки своих маленьких детей, чтобы те, любуясь открывавшимся с веранды видом, не вывалились за парапет. Все мужчины выглядели как-то неряшливо. Они были заняты тем, что присматривали за вещами или суетились с фотоаппаратами, чтобы увековечить свои семейства на фоне знаменитого отеля. Я прошла сквозь это столпотворение и, улыбнувшись скрипачам, которые развлекали публику музыкой, упала в объятия Ави.

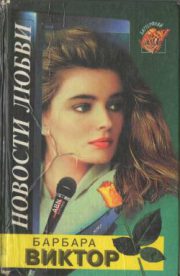
"Новости любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Новости любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Новости любви" друзьям в соцсетях.