То шепотом, то с помощью знаков Бродар и Лезорн вели беседу, одинаково волновавшую обоих. Тюремный язык используют все: жесты, взгляды, движения пальцев; слова часто играют в нем лишь вспомогательную роль. Таким образом, собеседники легко понимали друг друга, не привлекая постороннего внимания.
— Приехав в Индию, — продолжал далее рассказчик, — Коля втерся в доверие к радже, у которого была молоденькая дочь. Коля подарил радже позолоченную чашу, украденную у священника. И вот Коля — во дворце… А ведь известно, что, когда нужно взять крепость, труднее всего попасть в нее. Коля оказался во дворце и в конце концов женился на дочери раджи.
Соседи Лезорна и Бродара взглянули на них, но оба, по-видимому, крепко спали, закутавшись с головой в одеяла, неподвижные, как египетские мумии.
— До чего отупели эти остолопы! Храпят вовсю, когда можно повеселиться… А ну-ка, растолкаем их!
Но Лезорн и Бродар снова натянули на себя одеяла и захрапели еще пуще.
— Дрыхнут как медведи… И друг от друга их не отличишь… Вот умора!
Рассказчик перевел дыхание, откашлялся, переложил жвачку за другую щеку. Вновь воцарилась тишина.
— Женившись на дочери раджи, Коля разбогател, да еще как! Ему привалило счастье. Принцесса втюрилась в него. Он стал судьей, вроде тех, что заседают в наших трибуналах. Простые люди были очень довольны, потому что Коля всех оправдывал. Он сделался наследником раджи. Но его приключения не кончились…
Бродар и Лезорн возобновили разговор.
— А твой марсельский акцент? — спросил Жак. — Ведь я говорю иначе.
— Пустяки! Не арестуют же тебя лишь за то, что ты подделываешься под чей-нибудь выговор? Конечно, мне придется труднее, чем тебе, — ведь я останусь здесь. Но я на это плевал! Запомни все, что надо говорить начальству, и не плошай.
Бродар не задавался вопросом, почему этот человек с такой готовностью жертвует ради него свободой, которою всякий другой с радостью воспользовался бы сам. Жак был поглощен мыслью о том, что сможет вновь увидеть своих детей. Его тревожили встававшие на пути трудности, но Лезорн всякий раз указывал, как их обойти.
Между тем рассказчик продолжал историю Коля:
— Однажды вечером, когда он ложился в постель под златотканым пологом, дочь раджи заметила на ноге у него звено от кандалов: Коля так и не удосужился его снять.
«Мой ангел, — спросила она, — что это за кольцо блестит на твоей лодыжке?» — «Свет моих очей, это браслет, подаренный мне дочерью короля Простофилии. Я носил его на руке, но, после того как увидел тебя, надел на ногу».
Однако дочь раджи была очень ревнива и предпочитала, чтобы Коля вовсе отказался от этого украшения…
«Они считают меня остолопом, — думал Лезорн. — Сами они остолопы! Я всех их обведу вокруг пальца, вместе с рыжими (полицейскими), и никто ничего не заметит!»
Рассказчик продолжал:
— Долгополый, которого когда-то встретил Коля, сделался миссионером и тоже отправился в Индию. Он ежедневно посещал раджу и разглагольствовал о горячих угольях, ждущих грешников в аду. Но вот однажды он увидал, как раджа пил ром из позолоченной чаши… Долгополый так и подскочил…
Каждый раз, когда рассказчик останавливался, Бродар и Лезорн делали вид, будто спят: даже самые внимательные взгляды не могли обнаружить их притворства.
— Раджа объяснил, что это подарок его зятя, а дочь раджи подтвердила, что ее супруг — знатный вельможа, которого боятся все мужчины и любят все женщины; он до сих пор носит на лодыжке железный браслет, подаренный ему дочерью короля Простофилии… Тут долгополый смекнул, что зять раджи едал не только белый хлеб на свободе, но и хлеб из отрубей на каторге…
Лучи зари уже проникали в зарешеченные окна, выхватывая из полутьмы желтые лохмотья, красные куртки и зеленые шапки. Рассказ о Коля пришлось прервать. Надзиратели в последний раз обошли помещения, вовсю ругаясь из-за скверной погоды. Каторжники, взобравшись на нары, внимательно обследовали швы своего грубого рабочего платья, прежде чем, надев его, выйти на тяжелую работу. В этих швах водилось немало живности…
Итак, Лезорн ограждал себя от нового судебного процесса: как медведь в берлоге, он залег в тюрьме, чувствуя опасность за ее стенами. Правда, его огорчало, что Бродару не хватает смекалки; однако он надеялся, что его сообщник, движимый любовью к своим детям, как-нибудь выпутается в случае беды. Впрочем, лишь бы Бродара освободили, а там пусть его хоть повесят! Спасти свою жизнь — к этому сводились все стремления Лезорна. Он был лишен моральных принципов, которые удерживают человека от дурных поступков, но зато обладал изрядной долей хитрости, легко сходящей за ум. И зачем только природа снабдила змей ядом?
Лезорну и Бродару было поручено собирать на кораблях, пошедших на слом, все, что еще могло пригодиться. Труд этот был нелегок, но благоприятствовал их намерению добиться абсолютного сходства друг с другом. Для этого нужно было упражняться, а всякая другая работа не дала бы такой возможности.
Итак, Бродар вновь увидит дочерей… Но что с ними сталось? На письма он получил уклончивые ответы. Писала Софи; Анжела, видимо, не решалась. Судя по письмам, девочки были здоровы. Софи пыталась успокоить, утешить отца, уверяла, что никакие новые беды и опасности им не грозят. Вероятно, она писала под диктовку старшей сестры. Бедная Анжела! Бродар отлично понимал, что она не создана для той жизни, какую вела. Но он скоро вернется, и все изменится. Он не допустит, чтобы и младшие дочери сбились с пути. Когда отец рядом, это же невозможно.
Жак ни в чем не упрекал Анжелу. Разве она виновата? Если сети расставлены, птица рано или поздно в них попадет… Он увезет детей в деревню, будет работать не покладая рук, лишь бы они жили в безопасности, не зная нужды.
Лезорн и Бродар, эти два остолопа, как их называли, вместе ели, вместе спали, вместе работали. Глаза их, глубоко запавшие в орбиты, мрачно горели под зелеными шапками. Окружающие все чаще повторяли: «Право, одному из них надо повязать на руку шнурок!»
Как-то вечером Лезорн спросил Бродара:
— У тебя все крючья (пальцы) на ходулях (ногах) целы? Придется оттяпать мизинец на левой.
Жак беспрекословно подчинился: ведь он снова увидит своих детей!
Наконец в тулонской каторжной тюрьме объявили о новогодней амнистии. В пятой камере помиловали троих: Лезорна, Жан-Этьена и Гренюша.
Наступила решающая минута. В воскресенье утром, когда звуки трещотки созвали каторжников на обычную перекличку, торжественно вошли несколько надзирателей в сопровождении писаря. Заключенных построили в две шеренги, и писарь начал вызывать амнистируемых.
— Номер двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят второй!
Жан-Этьен вышел вперед. Это был бледнолицый мужчина высокого роста, с низким лбом. Казалось, он был сделан из глины, а не из живой плоти. Когда-то его приговорили к смертной казни за покушение на убийство родной матери, но его бабушка добилась замены смертного приговора каторгой, а теперь — и помилования.
— Надеюсь, — сказал ей отец Жан-Этьена, — что твой внук-бандит не вернется сюда. Довольно и того, что он будет на свободе. Но чтобы к нам — ни ногой!
Бедная старуха промолчала. Она считала, что Жан-Этьен уже достаточно наказан, и обивала пороги, хлопоча о его помиловании. А он? Он мечтал о наследстве. Человек, питающий надежды (так на жаргоне финансистов говорят о тех, кто рассчитывает поживиться на смерти родственников), становится убийцей по крайней мере в помыслах. Жан-Этьен, подобно тысячам других, доказал это и должен был доказать еще раз.
Писарь вызвал следующего:
— Номер тридцать тысяч пятьсот одиннадцатый!
Из рядов вышел Гренюш. Будь Гренюш животным, он вряд ли принадлежал бы к числу умных животных. Вечно голодный, лишенный возможности утолить свой чудовищный аппетит, он знал лишь одно желание — наесться до отвала. Гренюш был мал ростом, привык месить ногами грязь и снег, подставлять лицо ветру, засыпать где попало и в жару и в холод и есть, когда кто-нибудь сжалится над ним. А это случалось далеко не каждый день…
Сначала Гренюш испытывал только голод, но постепенно он почувствовал склонность к вину. Чтобы удовлетворить новую потребность, он совершил несколько краж. Однако пожива была мизерна по сравнению с его волчьим аппетитом; снова и снова приходилось запускать лапу в чужие карманы. Был ли он виноват в том, что природа наделила его такой ненасытной утробой? Помиловали его за то, что он, уже будучи на каторге, спас тонувшего офицера.
Писарь продолжал вызывать:
— Номер тринадцать тысяч шестьсот тринадцатый!
Вышел Бродар. Колени у него подгибались. Но случай ему представился столь необыкновенный, столь редкий, затея была так смела, что, к счастью, увенчалась успехом. Кто мог заподозрить обман? Все приметы оказались налицо: у него, как и у Лезорна, недоставало двух передних зубов и мизинца на левой ноге. Сообщник дал Жаку снадобье, с помощью которого свежая ранка на левом локте быстро зарубцевалась и выглядела, как старый шрам. К том уже освобождаемых изучают менее пристально, чем тех, кто только что попал на каторгу… И обмен именами прошел незамеченным.
— Бедняга Бродар! — говорили теперь Лезорну. — Не тебе выпало счастье… Ты не сможешь увидеть дочерей, старина!
Лезорн поникал головой и время от времени тяжело вздыхал. Ему было о чем подумать: толковали о находке, сделанной в каменоломне близ Парижа, где несколько лет назад был обнаружен труп. Теперь там нашли окованную железом дубинку, с какими обычно ходят разносчики. Земля, отдав тело убитого, вернула затем и орудие преступления…
Газеты сообщали подробности:
«Дубинку с набалдашником, к которому прилипло несколько седых волос, опознал хозяин соседнего трактира. Он видел ее в руках рослого мужчины, на кожаном ремешке, привязанном к запястью. Мужчину сопровождал невысокий старичок. Оба позавтракали и, выпив по чашке черного кофе, продолжали путь. Платил старичок, в чьем кошельке, по всей видимости, была кругленькая сумма».

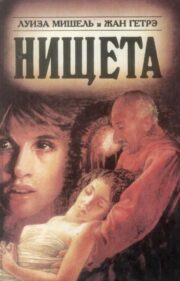
"Нищета. Часть вторая" отзывы
Отзывы читателей о книге "Нищета. Часть вторая". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Нищета. Часть вторая" друзьям в соцсетях.