– Давай пропустим по стаканчику в трактире, – припарковываясь, предложил Брагимович.
– Ты, должно быть, слышал, что многие говорят…
– Все всегда что-то да говорят, люди такие, – заметил Николас.
– … Что многие говорят, будто Джексон жив. И Че Гевара, поговаривают, не был никем пойман в Боливии. И Франческа никогда не была в Сент-Омере. Поговаривают, будто есть такое место, куда все они уезжают по разным причинам – кто-то спасается от угнетающей славы, кто-то – от долгов и любовников, кто-то потому, что слишком долго не был в отпуске.
Вот в этом доме, – продолжил он, когда они вышли из трактира и пошли по длинной главной улице этого маленького городка, – в этом доме до недавних пор жил Курт Кобейн. Он умер полгода назад. Там, – махнул он рукой на противоположную сторону улицы, – живет Че.
– Он жив? Гевара жив?
– Признаться, Франческа говорила, что ты будешь удивлен, но даже я не надеялся растрогать тебя до такой степени.
– А вон там живет Яшка Друбичев. Тем вечером в Париже я помог ему избавиться от долгов.
В серый дождливый вечер Ковалевич шла по улицам Праги. Мимо чугунных решеток, ограждающих здания, мимо зеленых газонов и симпатичных маленьких домиков. Она не могла удержаться от того, чтобы не остановиться, не взглянуть снова на готический собор: на витражи и стрельчатые окна, на уносящиеся вверх изысканные линии… Глядя на него, она видела на собор как таковой, как нечто материальное, а историю, которую он олицетворял, историю мира, мира ей неведомого… История пугала и завораживала ее; иногда, решившись войти, она подолгу смотрела на солнце, пробивающееся сквозь цветное стекло, на цветные тени, отбрасываемые им на чугунный пол… В стенах собора ей виделось прошлое, так, будто бы она, Катя Ковалевич, сама жила давным-давно и будто бы она шла сквозь историю – также, как солнце проходило сквозь витражи, оставляя свой след на полу и стенах собора.
В серый дождливый вечер она шла мимо ратуши и таверны; но на пути ее встречались и современные здания. Эти здания отличались от древних своей деструктивностью, и эта деструктивность одновременно привлекала и страшила ее.
То же самое было и с человеческими лицами, характерами. Ее притягивала деструктивность, которая иногда вовсе не олицетворяла отсутствие красоты. В ее сознание неидеальное, по общепринятым меркам, могло приобрести черты правильные, глубокие, достойные восхищения.
В серый дождливый вечер она чувствовала себя по-особому и думала, что это, наверное, и называется мироощущением. Сегодня она ощущала себя в Праге.
Итак, тем дождливым летним вечером, каких немало бывает в Праге и которые напоминают о том, что здесь так много замков, старинных книг в пыльных переплетах и башенные часы, как и сотни лет назад, частенько бьют полночь, Катя Ковалевич шла к массажисту.
В очередной раз глянув на бумажку с адресом и удостоверившись, что перед ней тот дом, который ей нужен, она поднялась по ступеням и повернула ручку.
Николас Яворский сидел за столом и что-то записывал в своем врачебном журнале. Он не любил носить белый халат. Но скоро должна была прийти пациентка, – он закончил записывать, закрыл журнал, подошел к окну – пошел мелкий дождь.
Николас надевал халат, застегивал пуговицы, по-прежнему глядя в окно. Сделал кофе, пил его, стоя у занавески. Потом мыл руки, смотрел в зеркало над рукомойником. Тихо играло радио. Николас вытер руки медицинским «вафельным» полотенцем.
Когда Катя вошла в массажный кабинет, она оцепенела от того, кто оказался доктором. Когда Володя предложил ей расслабиться, заняться собой и сходить на массажные процедуры, он и словом не обмолвился, что массажистом будет… Яворский.
Когда она вошла в кабинет, он глянул на нее исподлобья, и какая-то невообразимо дикая усмешка исказила его тонкие губы. Она сказала: «Кажется, я ошиблась. Мне к массажисту» – и направилась обратно к двери. Он сказал: «К сожалению, вы пришли по адресу, массажист – я».
– Да что вы? – едко так произнесла Ковалевич, собирая последние силы, чтобы не выдать голосом своей… своих… мыслей.
Яворский снова усмехнулся, сказал: «Но если вы не хотите… видеть меня в этой роли, я могу не тратить на вас время и лучше пойду выпью кофе».
«Ничего не выйдет, – сказала она. – У меня массаж, а вы врач. Так выполняйте же свою работу». «Ну что ж, придется пожертвовать обедом» – сказал после недолгого внимательного разглядывания стоявшей перед ним – и указал на кабинку для переодевания.
Частный кабинет был не очень большим. Обыкновенная комната с жалюзи на окнах, оборудованием, кушеткой и умывальником для рук.
«Отвернитесь», – сказала она. Яворский стоял спиной к окну. При ее словах он обернулся. Она, поднявшись на цыпочки, выглядывала из-за ширмы.
– Я врач, мне все равно, – ответил он на ее реплику и отвернулся к окну, записывая что-то в блокнот.
Легла на кушетку.
Чувствовала мягкие шаги.
Его руки… были немного холодными. Яворский был сейчас так близко… Он касался пальцами ее спины, рук, кистей… Она чувствовала аромат его туалетной воды.
– Зачем вы курите? – вдруг спросил он.
– Откуда?..
Перебил:
– Запах.
Помолчала.
– Зачем курите вы?
В ответ на его вопрос сказала:
– Сигареты лежат на столе.
Тихо пели «Битлз».
– Необходимо.
– Для душевного спокойствия? – хмыкнула она.
Его руки на мгновение остановились на ее плечах.
Ей казалось, или он действительно улыбался?
– И для этого тоже.
– Вы любите ее, – вдруг сказала она, произнесла неожиданно для него, а уж тем более для себя, произнесла не как вопрос, а как факт, утверждение.
– На сегодня прием окончен. – Резко бросил он, ушел в угол комнаты мыть руки, стал записывать что-то во врачебный журнал.
Он был злой сейчас, Яворский. Злой на весь мир вокруг него. Он был высокий, сумрачный, хмурый. Темные волосы доставали до ушей.
Она прикрыла и открыла глаза, задержавшись на мгновение в темноте.
Следующий прием был назначен на четверг.
Доктор Яворский лежал на кушетке у окна, смотрел на «буржуазный квартал», который расстилался внизу, и думал о том, что в своей жизни любил только одну девушку. Он называл ее Lene. Доктор до сих пор не мог объяснить себе, почему ушел от нее. И тут же отвечал: «Все, что слишком притягивает, оставляя наедине с самим собой, нужно рвать и уходить». Это увлечение могло сделать с ним все, что угодно. Лене была слишком необычна, во всяком случае, она казалось ему такой. Николай любил Лене так, что мог… А что он мог? Был готов ради нее на все, а это опасно. Яворский был закрыт для нее, как закрыт был для всего остального мира, а она едва ли хотела понять его. Но Лене больше не было в его жизни. Она была теперь в жизни немецкого теннисиста – загорелого, спортивного, известного.
Вздрогнув, взлохматил обеими руками волосы на затылке. Стал забавным. Сделал кофе. Подошел к окну и опять смотрел на крыши соседних домов. Вспомнил недавний разговор с новой знакомой.
– Ты похож на двух слишком хорошо мне известных персонажа русской литературы, Яворский.
– На кого же? – он тогда поднял бровь.
– Ты возгордишься, если скажу.
– Я – что? Возгоржусь? – рассмеялся. Просто потому что давно не слышал таких необычных русских слов.
– Да, именно.
– Так на кого?
– Про одного писал Пушкин, про другого – Лермонтов.
Яворский задумался.
– Ну давай, выпускник Сорбонны, думай! – улыбалась Ковалевич.
Он в задумчивости потирал лоб. – Может, вот это тебе что-нибудь напомнит? И Катя по памяти произнесла запавшие когда-то в память строчки знаменитого произведения: «Никто не умеет так хотеть быть любимым; никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается убедить себя в обратном».
– Онегин! – воскликнул он.
– Печорин, – грустно улыбнулась она.
В Праге был грязно-серый вечер. На белом подоконнике стоял крепкий, давно остывший чай с красивым названием Соу-сэп, а за окном блестели железные крыши чешской столицы. Это тускло освещенная комната с холодными стенами и ворсистым ковром на каменном полу, очевидно, является самым дешевым номером во всей гостинице. Серые шторы отдернуты, диван местами вытерт и несколько дыряв, он производит впечатление самой неблагоприятной ветхости и старины. Это, несомненно, одна из самых дрянных гостиниц во всей Чехии. Часы только что сухо пробили семь раз, нарушив тем самым глубокую тишину и слишком четко прочерченную отстраненную уединенность комнаты.
На полу лежит черный силуэт. Он находится тут довольно долго – подогнув колени и закрыв широкими рукавами черной спортивной кофты уши. Серые джинсы выглядят старыми, штанины сильно потрепаны внизу. На белых некогда кроссовках засохшие комья грязи и черные полоски трещинок. Человек лежит неподвижно, становясь похожим на скульптуру из застывшей глины… Крупный дождь начинает трещать по стеклу, словно назойливо напрашиваясь в гости, холодно стучит по крышам соседних домов и стоящих на гостиничной парковке автомобилей. Внизу, будто испугавшись его резких капель, срабатывает сигнализация черного Forda, и силуэт на полу, пошевелившись, тихо стонет – так, будто что-то причиняет ему немыслимую боль.
Она поднимается на ноги, совершая над собой нечеловеческое усилие, оглядывается… делает несколько нетвердых шагов, подходит к окну… долго глядит на то, что нарушило ее неспокойный сон; вскоре сигнализация умолкает. Она берет кружку, чувствует ее холодный край губами, делает глоток, устремляя усталый взгляд на улицу. Глаза видят дождь, глаза – остро-зеленого цвета… волосы – коричневые, с мягким рыжим отсветом. Девчонка упирается тонкими твердыми пальцами в подоконник, будто бы для того, чтобы не упасть, смотрит вдаль – за крыши, пытаясь заглянуть за горизонт. Она открывает окно, смотрит на карниз – с него стекает вода, он скользкий. Она захлопывает деревянные створки с обсыпавшейся краской, гасит почти незаметный свет и уходит. Бесшумно, словно тень… оставляя на толстом ковре маленькие комки застывшей грязи. Бесшумно и на сей раз по лестнице.

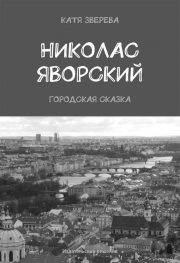
"Николас Яворский. Городская сказка" отзывы
Отзывы читателей о книге "Николас Яворский. Городская сказка". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Николас Яворский. Городская сказка" друзьям в соцсетях.