А в школе ее знают вовсе не как дочку миссис Нельсон, учительницы музыки, а как дочку пьяницы, который всегда слоняется возле «Погребка Эрла», — в этом она была совершенно уверена, хотя чувствовала себя такой чужой среди школьников, что никогда не осмелилась бы спросить, что они в самом деле думают или о чем перешептываются за ее спиной.
Она делала вид, будто у нее вполне нормальная семья, даже тогда, когда начала понимать, что это далеко не так, даже тогда, когда ученики ее матери поведали всему городу, что из себя представляет семейка Люси Нельсон.
Конечно, ребенком Люси казалось, что она говорит чистую правду, когда сообщает подружкам, что это дедушка с бабушкой живут у них, а не наоборот. Как только она знакомилась с кем-нибудь, а новых друзей она заводила часто, она сразу рассказывала, что, к сожалению, не может никого к себе звать после школы — в это время бабушка спит, а Люси не хотела бы ее будить. Одно время, стоило в городе появиться новой сверстнице Люси, как она тут же выслушивала рассказ о бабушкиной привычке вздремнуть после обеда. Но потом одна из этих скороспелых подружек — Мэри Бекли (на другой год ее семья уехала из города) в ответ на эту историю захихикала, и Люси поняла, что кто-то уже отвел Мэри в уголок и посвятил ее в тайну бабушкиного сна. Она так разозлилась, что даже заплакала, и вид ее слез до того испугал Мэри, что та поклялась, будто захихикала из-за странного совпадения: ее маленькая сестренка тоже спит днем…
Но Люси не поверила. С тех пор она никогда и никому не лгала, с тех пор никого не приглашала домой и никак это не объясняла. С десяти лет у нее не было настоящей подруги, значит, не надо было бояться, что кто-нибудь, чьим мнением она дорожит, увидит, как мать принимает от учеников маленькие конвертики с деньгами (и так приторно-приторно говорит: «Большое, большое спасибо»), или, что еще хуже — о ужас! — увидит, как ее пьяный отец вваливается в дверь и замертво падает в прихожей.
Сразу же после каникул Люси начала заниматься музыкой. Ее учитель, мистер Валерио, посоветовал ей присмотреться к барабану. И целых полтора года Люси могла не думать над тем, что делать после школы, — у нее был оркестр. Они репетировали в зале или на поле, а по субботам играли перед футбольным матчем. Теперь вокруг нее всегда были ребята, они то проносились в комнату для музыкантов, то выскакивали оттуда, толкались в школьном автобусе или, прижавшись друг к другу потеснее, старались согреться во время бесконечно длившейся игры, которую Люси терпеть не могла. В общем, она теперь редко бывала одна после уроков, и на нее уже не могли показывать пальцами — эта девочка натворила то, эта девочка натворила это… Иногда, поднимаясь с барабаном из подвального этажа, она видела Артура Маффлина, который курил, взгромоздясь на свой мотоцикл. Несколько лет назад его выперли из школы в Уиннисоу, и он был чем-то вроде героя для тех самых мальчишек, что обзывали ее «Грозой гангстеров» и «Эдгаром Гувером». Но она не дожидалась, пока он крикнет что-нибудь новенькое, а сразу начинала выбивать дробь, и так до самого поля, да как можно громче, чтобы не слышать, проорал он свою очередную гнусность или нет.
А потом, в самом начале выпускного года, с оркестром было покончено. За две недели она дважды пропустила репетиции — проводила время у Элли Сауэрби, а мистеру Валерио объясняла (первая ложь за многие годы), что ей пришлось ухаживать за больной бабушкой. Он ей поверил, и между ними не осталось никакой натянутости — Люси по-прежнему оставалась «его надеждой», как он говорил. И она по-прежнему волновалась, когда выходила на поле, командуя себе: «Левой-правой… левой… правой…» и выбивая приглушенную маршевую дробь, пока они не выстраивались у средней линии и не начинали играть гимн. Ради этого мгновения Люси жила всю неделю, и дело тут вовсе не в глупеньком школьном патриотизме и даже не в любви к родине, которой у нее не меньше и не больше, чем у любого другого. Звездный флаг развевался на ветру, и это было действительно впечатляющее зрелище, но по-настоящему она начинала волноваться, когда все вставали в едином порыве при первых звуках, разносившихся по полю. Уголком глаз она видела, как одна за другой обнажаются головы, и чувствовала, как барабан мягко бьет по ноге, и ощущала солнечное тепло на волосах, которые выбивались из-под черной шляпы с желтым плюмажем и серебряными галунами. Да, это было поистине великолепно — и так оно продолжалось вплоть до той сентябрьской субботы, когда оркестр замер напротив трибуны, где все стояли в торжественном молчании. Она крепко сжала отполированные палочки, а мистер Валерио забрался на складной стул, который для него выносили на поле, поглядел на них и прошептал, улыбаясь: «Добрый день, музыканты», — и тут, перед тем как он взмахнул дирижерской палочкой, она вдруг поняла, что в оркестре объединенной средней школы города Либерти-Сентр всего четыре девушки: кларнетистка Ева Петерсон с бельмом на глазу, Мерлин Эллиот, хоть она и была сестра знаменитого Билла Эллиота, но сама она заикалась; новенькая горнистка, которой мистер Валерио очень гордился, — бедняжка Леола Крапп — такое чудное имя, да еще в свои четырнадцать лет она весила две сотни фунтов «без ничего». И — Люси.
В понедельник она сказала мистеру Валерио, что у нее не хватает времени для занятий — вечером работа в баре Дэйла, а днем репетиции…
Маленькая девочка с косичками раскачивалась в качалке у них на веранде, когда Люси взбежала по ступенькам. «Здрасьте!» — сказала девочка. А мальчишка, сидевший за пианино, едва она хлопнула дверью, остановился на середине такта и посмотрел, как она взлетает вверх по лестнице через две ступеньки.
Стоило ей повернуть ключ в двери спальни, как пианино снова заиграло. Она тотчас же вскочила на стул и стала осматривать свои ноги в стоявшем на туалете зеркале. Они были худые и тонкие, да это и естественно: ведь она такая низенькая и костлявая. Но что тут поделаешь? Вот уже два года, как в ней были все те же пять футов полтора дюйма, а что касается веса, ну что ж, она не любила есть — в чужом месте, во всяком случае. А к тому же, стоит ей пополнеть, ноги сразу станут как сардельки — у всех коротышек так.
Она слезла со стула и стала рассматривать свое лицо. Какая топорная, неинтересная физиономия. А про такие носы, как у нее, обычно говорят — одно слово «мопс»! Ева Петерсон хотела, чтоб ее так и звали в оркестре, но Люси дала ей понять, что с ее бельмом лучше это дело прекратить, и та сразу послушалась. В общем-то вздернутый нос не так уж и плох, но только вот кончик у него чересчур толстый. Да и челюсть великовата, во всяком случае для девушки. Волосы какие-то пегие, желтовато-беловатые, и никакой челкой, конечно, не исправить такую топорную, почти квадратную форму лица — это она прекрасно понимала. Но если зачесать волосы наверх — вот как сейчас, — виден костлявый лоб. Глаза, правда, у нее ничего или были бы ничего на другом лице. И что самое плохое — глаза словно и не ее. В комнате оркестра она иногда глядела на себя в зеркало и прямо ужасалась сходству с отцом — в шляпе она была на него похожа как две капли воды, особенно эти голубые кругляки под крутым бледным лбом. Кожа сплошь усыпана веснушками, но хоть, слава богу, прыщей нет.
Люси отступила от зеркала, чтобы увидеть себя целиком. Она не вылезала из клетчатой юбки, застегнутой спереди большой английской булавкой, серого свитера с поддернутыми рукавами да из жалких, поношенных башмаков. Правда, у нее были еще три юбки, но те уж совсем износились. Да ей наплевать на тряпки. К чему они ей? Ох, и зачем только она ушла из оркестра!
Люси одернула свитер, чтобы он поплотней обтянул ее. Груди у нее начали расти в одиннадцать лет, но через год это, слава богу, прекратилось. Но ведь, наверное, они снова станут расти? Она знала одно упражнение, которое увеличивало грудь, — его показала на уроке гигиены мисс Фихтер. Она вычитала про него в «Америкэн Постчур Мансли» — на обложке этого номера еще стояли на головах и улыбались во весь рот малыши — близнецы в белых трусиках. И она не понимает, над чем тут смеяться, говорила мисс Фихтер, это относится и к упражнению, необходимому для всякой уважающей себя женщины, которая хочет быть здоровой и привлекательной. Если они возьмут в постоянную привычку упражнять мускулы, пока еще молоды, им никогда не придется краснеть за свой вид. В этой школе слишком много девочек, которые совершенно не следят за собой, заявила мисс Фихтер таким тоном, будто хотела сказать — «врут» или «воруют».
Вначале надо было вытянуть руки перед грудью, а потом ударять кулаком правой по открытой ладони левой и наоборот, и проделывать это необходимо не меньше двадцати пяти раз, напевая для ритма, как мисс Фихтер: «Мне нужно, нужно, нужно беречь мой бюст».
Встав перед зеркалом — она предварительно заперла дверь, — Люси попробовала, как это у нее получается без слов. Интересно, долго это надо делать, чтобы подействовало? «Да-дам, — отсчитывала она, — да-дам… — да-дам».
Ох как она будет скучать по оркестру! А по мистеру Валерио! Но она больше не могла маршировать рядом с этими девочками — они просто уродки. А Люси — нет! И теперь никто не сможет сказать, будто она одна из них. Отныне ее будут видеть с Элли Сауэрби и больше ни с кем. Постель у Элли была с белым балдахином из органди, а рядом стоял удобный туалетный столик с зеркалом — за ним они будут делать уроки в дождливые дни. В хорошую погоду можно выходить в сад и читать на солнышке или просто прогуливаться по окрестным улицам, болтая о том о сем. Если к их возвращению уже стемнеет, Сауэрби скорее всего пригласят ее поужинать. По воскресеньям они будут звать ее с собой в церковь, а потом оставлять на обед. Миссис Сауэрби такая внимательная, так мягко говорит и назвала ее «дорогой», как только они познакомились, Люси тогда чуть было не ответила ей реверансом. А в пять с шумом заявится мистер Сауэрби. «Папаша-хохотун пришел!» — крикнет он, смачно поцелует жену прямо в губы, хотя она полная, почти седая и носит резиновые чулки (у нее больные вены, сказала Элли). Она обычно называла отца «хохотун», а он ее — «красотка», и, хотя эти глупые шутки коробили Люси, ей все же было очень приятно, что наконец-то она встретила истинно счастливую семью.

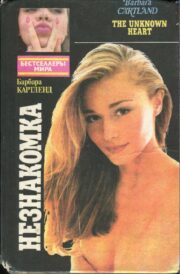
"Незнакомка. Снег на вершинах любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Незнакомка. Снег на вершинах любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Незнакомка. Снег на вершинах любви" друзьям в соцсетях.