К вечеру опрос свидетелей был закончен, утомительно-длинные заключения разнообразных экспертиз были зачитаны. Наутро следующего дня предстояли прокурорские и адвокатские речи, последнее слово подсудимого и — приговор. Финита ля комедия, как говаривали в иные времена и в иных местах. Ну, или финита ля трагедия — какая разница?..
— Мы ведь завтра туда не пойдем? — спросила меня Ксюшенька, когда мы шли с ней по совсем уже осеннему городу. — Нет, и впрямь — что нам там делать? О приговоре мы можем узнать и из газет. Или — ты все узнаешь на работе… Ну, чего ты молчишь? В конце концов, я беспокоюсь о тебе. У тебя сегодня было такое лицо… Я столько на твоем лице сегодня прочитала… Да не молчи же ты, слышишь! Знаешь, мне кажется, что ты себя в чем-то считаешь виноватым. Ну, в чем ты можешь быть виноват? Он — убил, ты — его поймал. В чем же ты виноват? Между прочим, это твоя работа…
— Да, — сказал я. — Разумеется, ты права. Он — убил, а я его — поймал. Я ни в чем не виноват. Просто — такая у меня работа…
— А! — безнадежно махнула рукой моя Ксюшенька. — Ладно уж, пойдем мы туда и завтра. Ох, какой же ты у меня дурак!..
Прокурор, как и полагается прокурору, был немногословен и суров: за все про все он потребовал для карлика смертной казни. Публика ахнула, покачнулась и разразилась одобрительными возгласами и аплодисментами. И мало кто в этом шуме услышал и увидел, как карлик в своей клетке тягуче взвыл, схватился за голову и рухнул на пол…
После прокурора выступал адвокат. А впрочем, что — адвокат? Адвокат как адвокат: да и кто в зале внимал его доводам? Публика жаждала карликовой смерти, никакой иной приговор, кроме смерти, публику бы не устроил…
После адвоката слово предоставили Витьке Кольцову. К этому времени он уже слегка оправился от шока, причиненного словами прокурора, и был многословен, предельно заискивающ и суетлив. Впрочем, смысл его речи сводился к одному: карлик умолял его пощадить. Свою просьбу о пощаде он все повторял и повторял, и даже когда судья произнес: «Суду все ясно» и велел ему замолчать, карлик никак не мог остановиться: вцепившись руками в решетку, под яростные возгласы публики и вспышки репортерских фотоаппаратов, он умолял суд не лишать его жизни… Я не выдержал и, расшвыривая орущую публику, вышел из зала…
Приговор выносили после обеда. Пока судья зачитывал список Витькиных прегрешений на этой земле и то, как эти прегрешения соотносятся с земным законодательством, публика в нетерпении елозила на скамейках и раздраженно сучила ногами. Всем хотелось поскорее дождаться определяющей части приговора, то бишь возвещения о карликовой смерти. И в конце концов публика дождалась. Руководствуясь действующим законодательством и именем страны и народа (то есть той самой беснующейся публики), серийному убийце карлику Витьке Кольцову был вынесен смертный приговор…
Разумеется, публика тут же восторженно взвыла. Впрочем, я мало обращал внимания на этот вой: меня в этот момент интересовал карлик, только он, и никто иной на свете. Услышав слово «смерть», Витька какое-то время непонимающе смотрел на судью, затем широко раскрывая рот, принялся что-то выкрикивать… Из-за шума, чинимого публикой, никто не слышал, о чем он кричит, да никому, в общем, это было и не интересно. Тотчас же к Витьке подскочили полтора десятка фоторепортеров, и резкие белые огни суетливо заплясали на Витькином лице и его неистово разинутом рте. Вслед за фоторепортерами к Витьке бросились конвойные милиционеры (те самые, между прочим, из ИВС, которым я в приступе пьяного отчаяния и бессилия давал наставления о бережном обращении с Витькой), отворили клетку, ухватили Витьку и поволокли… Верней, пытались поволочь, но Витька уцепился руками за прутья клетки и продолжал безмолвно кричать — и попробуй так вот запросто отцепить Витькины ручищи от этих прутьев…
— Пошли отсюда! — резко дернула меня за рукав Ксюшенька. — Слышишь, пойдем отсюда… немедленно!
Раздавая не глядя направо и налево тумаки и затрещины, я пробирался к выходу и волок за собой мою Ксюшеньку. Вот наконец и выход: невыразимо синее осеннее небо брызнуло нам в глаза. Синее небо и желтые резные листья на его фоне. Желтые резные листья и кроваво-красные кисти ягод…
На следующий день я пошел на работу и написал рапорт о своем желании уйти на пенсию — по выслуге лет и состоянию здоровья.
— Оно конечно, — сказал Батя, прочитав мой рапорт. — Как говорится, имеешь право. Да только… Может, подождал бы малость, а? Вместе пришли, вместе бы и ушли…
— Ну, пиши и ты свой рапорт, — сказал я. — В чем же дело?
— А! — безнадежно махнул рукой Батя. — Как же — пиши… Это ты у нас такой решительный и смелый. А я, наверно, уйду отсюда тогда, когда меня либо вышвырнут, либо вынесут вперед ногами. Мент я, в отличие от тебя, мент! Этим все и сказано. Тем более — обещали дать полковника за успешное руководство в поимке маньяка-убийцы…
— А там и до генерала недалеко… — усмехнулся я. — Давай, подписывай, не томи душу.
— Оно конечно, — еще раз сказал Батя и остервенело расписался на моем рапорте. — Черт бы его все побрал… Да, кстати. Хотел тебе сказать в качестве утешения: вряд ли его расстреляют.
— Кого? — угрюмо спросил я.
— Его! — рявкнул Батя. — Выпендриваешься, твою мать… сугубо штатский человек! Его — твоего карлика! Сообщили мне сегодня из области, что закон у нас такой на днях принят — никого не расстреливать. Расстрел станут заменять пожизненным заключением. Хотят, чтобы было как в просвещенной Европе — мать ее, эту Европу, эти законы и все на свете!
— Приходи сегодня вечером к нам, — сказал я. — Посидим, выпьем… Приходи, ладно?
— Приду, — сказал Батя. — А, дьявол! Совсем забыл: надо же дать распоряжение выпустить на свободу этого черта… Васю Убогого. До сих пор ведь сидит!
— Его не расстреляют, — сказал я вечером моей Ксюшеньке. — Батя говорил, будто закон такой вышел — заменять расстрел пожизненным заключением. Так что — его, наверно, не расстреляют…
— Я сегодня весь день думала… — взглянула на меня Ксюшенька своими удивительными осенними глазами. — Я думала о том, что если бы не он… не этот карлик, то мы бы с тобой, наверно, и не познакомились. Всю жизнь ходили бы мимо друг друга, рядом друг с другом, по одним и тем же дорогам, а — не познакомились бы. А если бы случайно и познакомились, то… Прости за напоминание, но ведь эта твоя прежняя… эта твоя Мулатка… ведь не будь этого несчастного карлика, она бы, наверно, от тебя бы и не ушла… И тогда мы бы не были вместе… Удивительно, правда? Но вместе с тем… Получается, что свое счастье мы с тобой построили на несчастьи другого человека… на несчастьи этого карлика. Ведь если бы не он… не те преступления, которые он совершил, и не те причины, которые его вынудили сделать это… Как ты думаешь, можно ли свое собственное счастье построить на несчастьи другого? А если все же можно, то как же с таким чувством… как же с этим ощущением жить?
— Не знаю… — сказал я.
— А еще я подумала… только что подумала, совершенно неожиданно, — сказала Ксюшенька. — Ну, допустим, не расстреляют его… карлика… Витьку… даже наверняка не расстреляют, коль есть такой закон, чтобы не убивать. Он останется жить и будет сидеть в тюрьме… всегда будет там сидеть, сколько ему еще отпущено… Но — как он будет там… как он будет жить, о чем все эти годы будет думать, что будет вспоминать, что чувствовать? Одинокий, маленький человечек на огромной земле…
— Не знаю, — еще раз сказал я. — И — не хочу знать. Понимаешь — я не хочу этого знать! Я хочу просто жить, любить тебя, знать, что ты любишь меня… Весной мы купим за городом замечательную дачку…
— Посадим там живую изгородь, рябину и калину, — подойдя ко мне и сев у моих ног, сказала моя Ксюшенька.
— И еще я хочу посадить яблоню, — сказал я, ероша ее волосы. — Две яблони… даже три.
— И будем мы летом жить на той дачке, а зимой — здесь, в доме, — сказала моя Ксюшенька. — Жить и слушать, как за окном в темноте плачет в проводах ветер…
— Я не люблю плача ветра в проводах, — сказал я. — С детства не люблю…
— Я знаю, — сказала моя Ксюшенька. — Но ветер будет там, снаружи, а мы с тобой здесь, внутри. Рядом друг с другом…
— Да, — сказал я, — конечно…
— Мне кажется, — сказала Ксюша, — что мы с тобой — отъявленные эгоисты…
— Мне тоже так кажется, — сказал я. — А еще мне кажется, что иначе на этом свете выжить просто невозможно.
— И немыслимо, — закончила моя Ксюшенька…
Среди прочих документов, которые мне предстояло сдать перед увольнением, было и уголовно-розыскное дело, заведенное по фактам целой серии громких убийств в нашем городе… короче говоря, тех самых убийств. В соответствии с требованиями закона реализованные уголовно-розыскные дела обязаны были какое-то время пылиться в архиве, а затем они уничтожались. Это уголовное дело может храниться сотни лет и, возможно, попасть в руки наших отдаленных потомков, которые, разумеется, будут и лучше, и разумнее, и гуманнее нас нынешних, — а уголовно-розыскное дело не имеет права читать никто. Каждый год мы, сыщики, уничтожаем кипы уголовно-розыскных дел: мы сжигаем их в близлежащей кочегарке и притом наблюдаем, чтобы даже крохотные искорки не разлетелись по ветру…
Я и поныне не знаю, для чего я это сделал, но — я это сделал, совершив тем самым, накануне своего ухода из милиции, уголовно наказуемое деяние, то бишь полнокровное преступление. Оставшись в кабинете один, я торопливо стал выдирать из уголовно-розыскного дела отдельные его фрагменты. Я, возможно, выдрал бы и больше, но за дверью послышались голоса, и я торопливо запихнул выдранные листы в подвернувшуюся пустую папку, завязал на этой папке тесемки и засунул ее за пазуху.
Придя домой, я запихнул эту папку в самый дальний угол дома и целую зиму затем со страхом ожидал, что каким-то случаем моя Ксюшенька эту папку обнаружит… Я не хотел, чтобы она ее обнаружила, и не хотел, чтобы она меня спросила, что это за папка и что в ней хранится. Именно поэтому с наступлением весны, когда мы с Ксюшенькой купили давно присмотренную загородную дачку, я первым делом отнес туда эту папку и сунул ее в самый дальний угол дачного чуланчика, решив при этом никогда в этот угол не лазить самому и ничего не говорить моей Ксюшеньке…

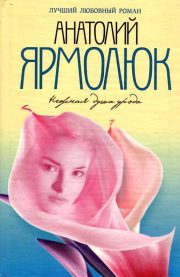
"Нежная душа урода" отзывы
Отзывы читателей о книге "Нежная душа урода". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Нежная душа урода" друзьям в соцсетях.