Разумеется, в ту ночь я не спал на моей доброй липе, о чем жалею до сих пор. Это было единственное, не считая кладбищенского сторожа Кириллыча, доброе ко мне существо в этом мире, а я его так и не поблагодарил за доброту. Да и Кириллыча я не успел поблагодарить тоже… В ту ночь я спал в какой-то подворотне. Вернее, даже и не спал, а как-то так… Ближе к утру мне пригрезилась мамка. Она пришла ко мне и долго молча смотрела на меня. «Что тебе надобно, мамка?» — спросил наконец я. «Сыночек, сыночек, — сказала она, — что же ты наделал! Ведь я же тебе говорила — покайся! Покайся — говорила я тебе… Что же ты наделал, сынок! Ведь у тебя душа — как цветочек полевой! Как же ты будешь жить дальше — с такой-то душой»? «Не надо, мамка, — сказал я в ответ. — Не надо, слышишь? Ну больно же, мамка! Ох, и больно же, мамка… И — ничего теперь уже не изменишь. Ничего теперь не изменишь, мамка! Так что — уходи. Уходи, слышишь! Уходи и больше ко мне не являйся»… Мамка еще постояла, горестно покачала головой, повернулась и ушла. А вскоре наступило утро.
Все остальное, думается, никому уже и не интересно. На следующий день на кладбище дежурил Кириллыч, и я пошел на могилку к моей Полюшке. Я намеревался побыть рядом с моей Полюшкой, а затем подойти к Кириллычу и договориться с ним о собственных похоронах — чтобы рядом с нею, с моей Феюшкой. Денег, чтобы заплатить Кириллычу за его доброту, у меня не было, ну да я надеялся, что Кириллыч исполнит все и без денег. Если в этом мире и есть доброта, то она, думается мне, обязана быть бесплатной… Как я намеревался покончить с собой? Не знаю: как-нибудь. В этом мире имеется столько способов… Но — я не успел: меня арестовали. Я и поныне не понимаю, каким образом меня выследили именно на кладбище: не добрый же Кириллыч донес, в самом деле! Надо сказать, что ареста я очень испугался, потому что понял — сегодня я с моей Феюшкой не встречусь. Ну, а коль не встречусь, то, вероятно, меня станут бить. Я очень боюсь побоев, гораздо больше, чем самой смерти. Я в моей жизни их натерпелся столько, что больше уже не могу… Я попытался уйти по деревьям, но одно из деревьев меня подвело…
Вот и все, что я хотел написать в своей явке с повинной. В детстве мне никого не хотелось убивать, даже драться за деньги, и то мне было тягостно. Мне кажется, что тогда, в детстве, я жалел людей и, может быть, даже любил их. Я думал, что точно с такими же чувствами по отношению к людям я могу прожить всю жизнь. Не вышло… В этом мире злых и холодных великанов эльфам и феям, вроде меня и моей Полюшки, не выжить, а иного, маленького и тихого мирка, где бы мы с Феюшкой могли укрыться, наверно, нигде не существует… Не надо, я думаю, мне было и встречаться с моей Феюшкой. Не надо мне было ее любить. Не надо мне было думать, что в этом мире отпущено счастьишко и для меня. Не надо мне было и на свет рождаться. Карлик, урод… Я хотел жалеть людей, а мне пришлось их убивать. Мамка ты, мамка, — что ж ты не бросила меня еще в детстве в самый глубокий омут, которых так много было в нашей речке Журавлихе!.. Не бейте меня: мне больше нечего сказать…»
10
При всем нашем разнообразном опыте, такой явки с повинной нам читать еще никогда не доводилось. Я созвал своих оперов, мы пришли к Бате, заперлись в кабинете и читали все то, что написал убийца-карлик, до первых петухов. А когда закончили читать, Батя молча полез в свой служебный шкаф, достал оттуда огромную бутыль с водкой, разложил на столе домашние пирожки, соленые огурцы и поставил три стакана на пятерых.
— Берег на самый пиковый случай, — сказал Батя, указывая на бутыль. — Мехоношин, ты самый молодой, так что разливай…
Мы молча пили до самого утра, а утром всех нас, мрачных и пьяных, дежурная машина развезла по домам. Я, впрочем, остался в отделе. В соответствии с законом мне надо было отдать многостраничную явку с повинной в следственный отдел. Что я, разумеется, и сделал. В принципе, я имел полное право торжествовать. Я изобличил серийного убийцу. Я раскрыл целую серию тягчайших преступлений, которые поставили на дыбки весь город, да, возможно, и не только город. Но — не хотелось мне ни торжествовать, ни сверлить дыры в погонах для подполковничьих звездочек… Отчего-то мне не хотелось даже жить. Жалкая, скрюченная фигурка карлика-урода стояла перед моими глазами… Всех вашу мать, и зачем я только в свое время избрал себе столь поганое ремесло! Ведь многие же мне говорили — не для тебя, дескать, это! Добрый ты слишком, дескать, душа у тебя мягкая… «Нежная, как цветочек полевой», — пришли мне на ум слова…
Круто выматерившись, я, как был пьяный, спустился в наш милицейский подвал, где располагались камеры с узниками.
— Петро, — сказал я начальнику узилища, — собери-ка мне своих подчиненных, да и сам никуда не уходи!
— Это еще зачем? — недовольно сказал Петро. — Шли бы вы, товарищ майор, да поспали, что ли. А то, если хотите, можете прикорнуть в моем кабинете: есть у меня там диванчик…
— Поумничай у меня! — окрысился я. — Сказано тебе: собери подчиненных, — стало быть, собери! Я желаю сказать им речь. Распоряжение Бати!
— Ну, если только распоряжение Бати… — с сомнением сказал Петро и пошел скликать своих подчиненных-стражей.
Вскоре все они собрались. По незыблемой традиции нашего городского отдела в эти стражи назначали тех милиционеров, которые более ни на что и не годились. Ну, или таких, которые в чем-то крепко проштрафились перед законом и Родиной-матерью. Отпетые, короче, в большинстве своем были ребята, эти стражи, жестокие, холодные и на все способные…
— Слушайте, вы! — сказал я, оглядев это тюремное воинство. — Слушайте и запоминайте, потому что в другой раз я на эту тему буду говорить иначе! Есть у вас один сиделец по имени Виктор Кольцов. Карлик. Есть, я вас спрашиваю, или нет?
— Ну, есть, — угрюмо отозвалось тюремное воинство.
— Ну, так вот: есть, — резюмировал я. — И, судя по всему, он, этот карлик, будет сидеть у вас еще долгонько. До тех пор будет сидеть, пока его не заберут от вас в тюрьму. Понятно вам? Я спрашиваю — вам все ясно?
— Понятно, — все так же нехотя отозвались капэзэшные охранники.
— Ни хрена вам не понятно! — рявкнул я. — Я говорю, что сидеть этот карлик будет у вас еще долго! Так вот: если за это время с его головы упадет хоть единый волос… если вы сами либо еще какая-нибудь б…дь посмеет дотронуться до него пальцем — я вас всех… вы у меня все… Приказ самого Бати, понятно вам? Понятно или не понятно?
— Понятно… — прогудели стражи.
— Карлика держать в отдельной камере! — сказал я. — Передачки, если они будут, отдавать ему беспрепятственно и целиком! Доктора, если понадобится, вызывать немедленно! Если он потребует следователя — докладывать мне немедленно! Вызывать меня, даже если бы я находился на том свете!
— Узник замка Иф, — саркастически ухмыльнулся начальник узилища Петро. — Таинственная персона…
— Этот… граф Монте-Кристо! — добавил один из стражей.
— Не ваше дело! — совсем уже вызверился я. — Ваше дело — в доподлинности выполнять то, о чем вам сказано! Понятно вам? А коль понятно, то и ступайте отсюда к едрене фене!
Нельзя сказать, что от этой дурацкой моей речи перед охранниками нашего ИВС мне шибко полегчало. Не полегчало ничуть, однако же я считал, что речь свою произнес не напрасно. Потому что — знаю я их, этих охранников… Да и вообще…
Как только я вышел на улицу, ко мне со всех сторон бросились какие-то люди: репортеры, зеваки, какие-то стервозного вида расхристанные дамы…
— Товарищ майор! — хором завопила вся эта публика. — Мы о вас спрашивали у дежурного — он сказал, что вы находитесь в ИВС! Скажите, вы были у него, у карлика? Ну и как движется дело? Говорят, что он написал явку с повинной? Скажите хотя бы вкратце — что в этой явке? В чем он сознается? А в чем, по-вашему, он не сознался? Правда ли, что к нему применяли методы психологического воздействия? Говорят, его били? Я — корреспондент из… А я — из правозащитной организации… А правда, что…
Ну и так далее. Я вытащил пистолет, передернул затвор и шмальнул поверх голов этого сброда — четыре раза. Люди бросились врассыпную. Задним умом я тут же подумал, что, должно быть, мне достанется на орехи за такую стрельбу, и, возможно, очень даже достанется — но сейчас мне было глубоко все равно. Может, виной тому была выпитая ночью водка, может, что-то еще… Что-то прошедшей ночью со мной произошло, что-то во мне переиначилось и сломалось. «А душа у него — как цветок полевой: нежная-нежная…» — зачем-то возникло в моей голове. Я встряхнул головой, спрятал пистолет и пошел…
Накрапывал дождь — холодный, тяжелый, почти осенний. «Ну да, — помимо желания подумал я, — скоро ведь осень… уже, можно сказать, осень. А куда, собственно, я иду? Домой? Да нет, мой дом — совсем в другой стороне. Мне надо идти в другую сторону… там мой дом. Ну и — что? Что с того, что мой дом — в другой стороне? Кто меня там ждет, в этом моем доме? Никто меня там не ждет… Дождь, дождь… Нет, а в самом деле — куда же я иду?»
И вдруг я понял, куда я иду. Я иду на улицу Рябиновую в дом номер два. В этом доме живет человек по имени Грушина Ксения. Когда-то, давным-давно, когда я еще был другим, не таким, как сейчас, я познакомился с этой женщиной, я с ней общался, она приходила ко мне домой и провела у меня ночь. Это была удивительная ночь, это была ночь, наполненная целомудрием и трепетным ожиданием чуда. Ксения, Ксюша, Ксюшенька — Осенняя Женщина… Оказывается, я сейчас иду к тебе. Оказывается, мне в этом мире больше не к кому идти. Улица Рябиновая, дом номер два. Ксения. Только бы она была дома! Да нет, она непременно будет дома! Тем более — сегодня же, кажется, суббота. Хотя причем тут суббота? Она должна быть дома, потому что… да просто должна, и все тут!
Она была дома. Она стремительно выбежала мне навстречу, будто бы она знала, что я приду, и ждала моего прихода. Я остановился на полпути от калитки к ее крыльцу. Ее дом был обсажен калиновыми и рябиновыми кустами. На кустах нестерпимо краснели кисти ягод — предвестники скорой осени.

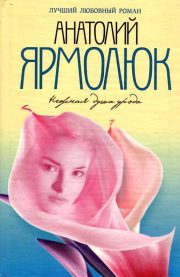
"Нежная душа урода" отзывы
Отзывы читателей о книге "Нежная душа урода". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Нежная душа урода" друзьям в соцсетях.