Конечно, поднялись шум, гам, суматоха и неразбериха, пользуясь которыми, я незаметно вышел из своей засады, и вскоре я был на кладбище.
— Вот видишь, Феюшка, — сказал я, — уже и третьего твоего убийцы нет на свете…
Не помню, сколько времени я сидел в ту ночь у могилки моей Полюшки — час, а может, два или три… Когда я уходил, восточный краешек неба уже начинал светлеть. Я намеревался дойти до городского сада, отыскать там подходящее дерево, взобраться на него и пару-тройку часов вздремнуть. Конечно, я бы так и сделал, если бы не случайная встреча еще с одним убийцей моей Феюшки Ванькой Куликом. Разумеется, этого Ваньку я также знал в лицо. Близкого знакомства у нас с ним никогда не было, но он был наш, зоновский, а зоновские все друг дружку знают.
Я сказал, что встретил этого ублюдка случайно. Да, конечно, наша встреча была случайной, и вместе с тем мне до сих пор кажется, что в этой встрече присутствовала какая-то предопределенность: будто кто-то всемогущий и неведомый взял нас с Ванькой Куликом за руки и одновременно привел на пустынную предутреннюю улицу к пивной «Чуркин и компания»… Не знаю, отчего во мне возникло такое чувство, но оно, это чувство, не покидает меня и до сих пор…
Ванька Кулик был по своему обыкновению пьян и, мне кажется, шествовал сам не зная куда. Я схоронился за углом «Чуркина и компании», какое-то время наблюдал за Куликом, и когда он со мной поравнялся, я шагнул ему навстречу…
— Ну здравствуй, Ваня, — сказал я ему.
Ручаюсь, что Ванька Кулик не ожидал кого-либо встретить, и уж тем более, он не ожидал встретить меня. Он резко остановился, отшатнулся, шлепнулся на зад и в испуге замычал. Кто его знает, может, он принял меня от неожиданности и спьяну за черта. В темноте меня запросто можно принять и за черта — об этом мне говорили неоднократно…
— Как у тебя, Ваня, дела? — спросил я у трясущегося и мычащего пьяницы. — Куда и откуда ты путешествуешь в такой час? Да ты никак пьян, Ваня? А коль пьян, то, стало быть, и богат? Ты богат, Ваня! И на чем же ты разбогател? Ну, на чем ты разбогател, Ваня?
Напрасно я, конечно, обращался к этому ублюдку, и уж тем более напрасно я говорил с ним столь долго, потому что от моих речей Ванька Кулик слегка протрезвел, пришел в себя и довольно-таки резво поднялся на ноги.
— Ты-ы-ы! — завизжал он, отбегая в сторону, — Слышь, ты… это!
И продолжая визжать, Ванька откуда-то из-под одежды вытащил остро заточенный металлический прут — по-нашему, по-зоновски, пиковину. С пиковиной шутки плохи, это я знал. На нашей Зоне пиковина пользовалась особым почтением… Вот потому-то, не давая Ваньке Кулику, да и себе тоже, опомниться, я стремительно швырнул свое тело вперед, мигом оказался рядом с Ванькой и двинул его кулаком в пах. Одного удара оказалось достаточно: Ванька Кулик взвыл, уронил пиковину и согнулся. Одной рукой я ухватил выпавшую пиковину, а другой — двинул Ваньку по челюсти. Ванька еще раз взвыл и упал на спину. Я мигом его оседлал и нацелился прямо ему в переносицу.
— Ну? — сказал я. — И что же мы теперь будем делать, Ваня?
— Э-э… ы-ы-ы!.. — ответил мне Ванька Кулик.
— Жить-то, небось, хочешь, мразь? — спросил я.
— Так ведь это… кто же не хочет? — впервые осмысленно сказал Ванька Кулик. — Жизнь-то ведь это… у всех одна.
И опять-таки — напрасно я пустился с этой сволочью в переговоры. Надо бы мне было делать свое дело сразу — безо всяких разговоров. А так… Я вдруг почувствовал огромную, просто-таки беспредельно огромную усталость: будто тяжкая каменная гора на меня навалилась. И еще — я вдруг почувствовал жалость к этому ублюдку Ваньке Кулику…
— Значит, говоришь, одна у тебя жизнь? — устало спросил я. — А ты думаешь, что у других — по две жизни?
— Так это… у всех по одной, — сказал Ванька и задергался, пытаясь опрокинуть меня.
— Лежать! — сказал я и нацелился пиковиной прямо в Ванькин глаз. — Лежать, мразь, иначе… Мразь ты, понял? Понял, спрашиваю?
— Э… понял… — испуганно ответил Ванька Кулик.
— Ну, а коль понял, — сказал я, — то и живи с таким понятием до конца своей поганой жизни! А чтобы ты этого случаем не забыл…
И острым концом пиковины я мигом начертил на Ванькином лбу глубокую литеру «м»: мразь, стало быть. Затем я встал и не слушая Ванькиного воя, пошел, бессмысленно держа в руке пиковину, куда глаза глядят. Худо мне было, ох и худо…
Не спрашивайте меня о днях, часах, минутах и тому подобных отрезках времени. Я до сих пор не могу вспомнить, день, два или три прошло с тех пор, как я заклеймил Ваньку Кулика и совершил еще одно убийство — священника отца Никанора. Я не хотел убивать этого человека, я вообще больше никого не хотел убивать. Но я — убил, и мне нечего сказать в свое оправдание…
Расправившись с Ванькой Куликом, я долго и бесцельно бродил по городу. Настало утро, я купил большую теплую ковригу хлеба, сунул ее за пазуху и отправился в городской сад. В самом отдаленном углу сада росла раскидистая, с густой кроной липа, на ветвях которой я провел уже несколько ночей. Хорошая это была липа, добрая: за день она впитывала в себя так много солнца, что даже утренняя прохлада, и та не могла до конца остудить ее тело. Ее листва надежно укрывала меня от всего остального мира. Если мне сейчас чего-то в том, потерянном для меня мире, и жаль — так это именно этой липы, если мне сейчас чего-то и не хватает, так это ее родного, теплого до самого утра, тела… Ну и вот: взобравшись на мою липу, я вытащил из-за пазухи ковригу и, отламывая от нее кусочки, стал машинально есть. Мне ничего больше не хотелось в этом мире, внутри меня больше не возникало никаких чувств. Мне было все едино — продолжать ли жить, умереть ли сию минуту… Прижавшись к теплому телу липы, я невольно слушал отдаленные звуки окружающего меня мира, до которого мне не было абсолютно никакого дела…
Сам того не осознавая, я заснул. Мне приснился сои. Это было тем более удивительно, что обычно сны мне снились весьма редко. Мне приснилась моя покойная мамка. Во сне она была молода и удивительно красива. Мамка стояла под липой, на которой я спал, смотрела на меня и светло улыбалась. Как она обнаружила меня в этой густой листве, кто ей сказал, что я здесь? Ведь даже перелетные птахи — и те меня не всегда замечали на этом дереве… «Мамка, — сказал я и заплакал, — вот видишь, как оно все несуразно получается…» «Тебе надо покаяться, сынок!» — сказала мамка. «Покаяться… — горько всхлипнул я. — Кто же их отпустит, мои грехи? Ведь грехи-то у меня какие, мамка! Несоразмерные грехи!» «Для НЕГО, — с ударением сказала мамка, — не бывает несоразмерных грехов. Ты покайся — ОН и простит». «ОН… — безнадежно вздохнул я. — Вначале ОН пускает меня на свет таким… таким… а как мне жить таким, не совершая греха?.. а затем ОН ждет от меня покаяния. Как же так-то, мамка?» «Да ведь главное-то, сыночек, не это, — сказала мамка. — Главное — это твоя душа. А она у тебя нежная, будто цветочек полевой…» «Мамка, — сказал я и снова заплакал, — мамка…» «Ты покайся, сынок», — сказала мамка… «Хорошо, мамка, — сказал я, — я покаюсь…»
С тем я и проснулся. Я вытер рукой свои мокрые глаза, засунул остатки краюхи поглубже за пазуху, слез с дерева и пошел каяться. Наверно, в этом городе имеется много храмов, но мне был известен всего лишь один — тот самый, в котором я был несколько дней назад и откуда меня по сути выгнали. И я пошел каяться в этот храм.
День клонился к вечеру. У входа на церковный двор сидели несколько человек нищих. Увидев меня, они недовольно заерзали и зашипели: должно быть, подумали, что я сяду рядом с ними, — а для чего им лишний конкурент? Я прошел мимо этих шипящих, оборванных калек и ступил на церковный двор. Здесь было совершенно пусто, и я направился в сторону того самого домика, куда прошлый раз ушел батюшка и в который меня так и не пропустила подвижная старушонка с колючими глазами.
Едва только я ступил на крыльцо, эта самая старушонка возникла передо мною вновь. Помню, я даже удивился столь неожиданному ее возникновению: будто из-под земли выросла бабуля…
— И куда это ты, милок, навострился? — как и в прошлый раз, затарахтела она. — Куда, спрашиваю, ты идешь? Если насчет обеда, то сегодня уже поздно, уже все съедено, да. А если ты насчет одежки к зиме, то…
— Мне нужно к батюшке, — перебил я старушонку.
— К батюшке! — насмешливо сказала бабуля. — А для чего тебе к батюшке?
— Стало быть, надо, — сказал я и вдруг почувствовал, что, наверно, не так уж мне к батюшке и надо, что я не прочь и уйти. И я бы ушел, если бы не вдруг припомнившийся мне сон. «Ты покайся, сынок», — сказала мне мамка… — Надо мне, поняла?
— Надо ему! — осуждающе сказала старуха. — Всем вам надо… покою от вас никакого! Нету, допустим, батюшки в храме… завтра будет! Вот завтра и приходи…
Не знаю, как бы я поступил в следующий момент: наверно бы все же ушел. Но, видимо, не суждено мне было в тот день уйти просто так, без дополнительного греха на мою, и без того пропащую, душу. Вероятно, услышав нашу перебранку, на крыльцо вышел батюшка собственной персоной.
— Что такое? — бегло спросил батюшка, глядя поверх меня.
— А говорила, что его нет… — сказал я, обращаясь к старухе.
— Иди отсюдова, милок, иди, — затараторила старуха и, сбежав с крыльца, принялась подталкивать меня в спину. — Ходят тут всякие… завтра с утра будет служба, вот и приходи. Завтра, завтра…
— Да ты, Людмила, погоди, — вдруг сказал батюшка. — Может, у него и впрямь какое-нибудь серьезное дело. Помнится, — обратился он ко мне, — я тебя здесь уже видел…
— Батюшка! — всплеснула руками старуха. — Да какие у них могут быть серьезные дела! Известное дело — убогий! Вот и все его дела…
— Да ты погоди, Людмила, — повторил батюшка, и вновь обратился ко мне: — Ну, так чего же тебе надо?
— Пускай она уйдет, — сказал я, указывая на старуху.

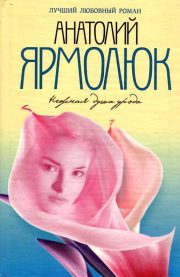
"Нежная душа урода" отзывы
Отзывы читателей о книге "Нежная душа урода". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Нежная душа урода" друзьям в соцсетях.