Так бы, наверно, я и сделал, если бы не Дыня. Ближе к ночи он вдруг подошел ко мне и сказал:
— Я вот чего думаю, гномик. Ежели твоя Дюймовочка в этом заведении, а проникнуть туда никак невозможно, то, стало быть, нужно это заведение поджечь!
— Поджечь? — удивленно спросил я.
— Конечно! — сказал Дыня. — Простой расчет: где они будут собираться и безобразничать, когда их заведение сгорит? Сгорит и пламенем греховным взовьется к чистым небесам!.. И, стало быть, все, кто там есть, разбегутся кто куда — потому что, еще раз говорю, где они будут грешить и маяться? Великое дело! Более того, если ты на это решишься, то вот тут — я тебе наипервейший помощник!
— Идем! — вскакивая, сказал я.
— Да ты погоди! — махнул рукой Дыня. — Пойти-то немудрено, да только… Ведь даже простого керосину у нас с тобой не имеется, а погода между тем на улице сам знаешь какая — дождь нескончаемый. Ты погоди, слышишь? Я тут кое-куда смотаюсь, с кем надобно перетолкую, а ближе к рассвету и того… пойдем. Ах ты, времечко предрассветное, предрассветное да злодейское… Ты подожди меня, слышишь?
И Дыня убежал, а я в большом возбуждении принялся его ждать. Идея поджечь заведение мадам Грязевой мне очень понравилась. Я отчетливо представлял себе, как это будет. Облитое принесенным Дыней керосином здание запылает сразу со всех четырех углов. Уж я-то насчет этого постараюсь — чтобы сразу и с четырех углов… Сам я затаюсь где-нибудь в кустах, и как только моя Феюшка выбежит из пламени, я тут же выскочу из своей засады, схвачу ее за руку и… В суматохе да еще в темноте никто нашего побега и не заметит. А с наступлением рассвета мы с Полюшкой уедем… мы уедем в другой город, на другой край света, в страну веселых фей и эльфов, где нам с Полюшкой только и место… Побыстрей бы приходил Дыня со своим керосином…
Но Дыни все не было и не было. Явился он только с первыми солнечными лучами, и в руках у него была не емкость с керосином, а некий завернутый в грязную дерюгу продолговатый сверток. Было такое впечатление, будто в этом свертке находилось небольшое, вроде как бы детское, человеческое тело. Сердце у меня вдруг зазвенело, оборвалось и умерло…
— Это… — увидев меня среди прочих недоумевающих обитателей ночлежки, сказал Дыня. — Это… погляди… не тебя ли оно касаемо…
Он осторожно положил сверток на пол и слегка приоткрыл краешек дерюги. Чье-то мертвое лицо выглянуло из дерюги и немигающими мертвыми глазами уставилось в черный потолок обиталища.
— А… — сказал я, вглядевшись в это лицо. — А-а-а…
Это было лицо моей Феюшки…
— Вот, — кривясь, сказал Дыня, — нашел… Шел через пустырь, гляжу — лежит нечто, завернутое в эту самую дерюжку. Маленькая женщина… Дюймовочка, фея… Удавилась, я так думаю. Не пожелала принимать позор, ну и того… А затем ее, должно быть, просто выбросили.
— А-а-а… — еще раз сказал я…
Хоронила мою Полюшку огулом вся ночлежка. Схоронили ее тайно, на Втором городском кладбище (у Дыни там был знакомый сторож по прозвищу Кириллыч) под самовольно выросшей рябинкой. Подробностей похорон я описать не могу. Нет, я, конечно, помню, как какие-то тетки из ночлежки укладывали мою Феюшку в дощатый гробик, как этот гробик затем ночью несли на кладбище, как его опускали в ямку и затем засыпали ямку землей, как долго затем над возникшим холмиком выли тетки из ночлежки, как затем в самой ночлежке до самого следующего вечера поминали Полюшку… Я также помню, как сразу же после похорон я беседовал с кладбищенским сторожем Кириллычем: «Гляди, — просил я его, — за могилкой, а я тебе за это буду приплачивать…» Еще я помню, как этот Кириллыч испуганно тряс головой в знак согласия и, кажется, уверял меня, что никакой приплаты ему не надобно, что он будет ухаживать и без того… Все это, повторяю, я помню, однако помню как-то не так, какими-то отдельными, не связанными между собой фрагментами. А так, чтобы целиком, — почему-то нет…
Зато очень отчетливо я помню, что когда я вернулся с кладбища в ночлежку, мне вдруг захотелось помолиться Богу. Помню, я даже нашел в себе силы удивиться такому своему желанию: вот, дескать, никогда меня не тянуло общаться с Богом, за всю свою жизнь я ни разу и не думал серьезно о Боге, а тут на тебе… Я не знал, откуда у меня взялось такое желание, я также не знал, как следует Ему молиться, и, разумеется, я не знал ни единого слова хоть какой-нибудь молитвы. Однако вдруг меня осенила мысль, что вовсе даже не обязательно знать молитвы для того, чтобы общаться с Богом, с Ним можно общаться и не знаючи молитв, обыкновенными словами… И я тут же попытался молиться обыкновенными словами: я хотел попросить у Бога, чтобы он приглядел за моей Полюшкой, чтобы он позволил, если это возможно, хоть иногда приходить Полюшке ко мне — во сне ли, наяву ли… Но — не было у меня даже обыкновенных слов, чтобы обратиться к Богу: все слова отчего-то разлетались, забывались, путались… Помню, что я лишь все время повторял «Боже, Боже», и помимо своей воли плакал…
Так продолжалось почти до утра, а утром я решил, что виной всему — моя неопытность в общении с Богом. Надо бы, подумалось мне, у кого-нибудь спросить, как надобно правильно молиться. Срочно спросить, пока не ушло от меня такое желание — разговаривать с Богом…
И я пошел в церковь, которая, к слову, находилась не так далеко от приютившей меня ночлежки. Пройдя мимо нескольких нищих, закоченевших у входа, я очутился на безлюдном церковном дворе и здесь в нерешительности остановился. Куда мне идти дальше, кого и о чем спрашивать?
— Скажи-ка, убогая, — вернулся я к одной из нищенок, — а этот… батюшка… как бы мне его увидеть?
— А для чего тебе? — спросила нищенка, показавшаяся мне ветхой старухой.
— Надо, — сказал я.
— Ежели насчет столовой, то она, я думаю, откроется часа через два, — сказала нищенка. — А ежели ты насчет зимней одежонки, то — без очереди никак нельзя. Держись за мной, если ты насчет одежонки…
Должно быть, старуха принимала меня за такого же, как сама, церковного попрошайку. Я ничего не сказал, махнул рукой и решил дождаться батюшку самостоятельно. Я отошел в сторону, присел на какой-то обрубок и стал ждать.
Батюшка явился часа через полтора. Высокий, молодой, в рясе и с крестом. Увидев батюшку, нищие восторженно заголосили и стали цепляться за длинные полы его рясы. Батюшка на ходу то ли всех их перекрестил, то ли просто от них отмахнулся, и ступил на церковный двор.
— Это… — сказал я, поднимаясь.
— Если насчет столовой, — на ходу сказал батюшка, — то это — к церковному старосте. А если насчет зимней одежды…
— Нет, — сказал я, — мне другое…
— Позже, потом! — не останавливаясь, сказал батюшка. — Сейчас у меня дела…
И батюшка скрылся в каком-то помещении. Автоматически я пошел туда же, но мне преградила дорогу невесть откуда взявшаяся бойкая старушонка.
— Нельзя тебе сюда, милок, нельзя! — затарахтела она. — Сказано же тебе — попозже! А вообще — приходи в храм на службу. А то на службе вас никого, а как просить — то нате вам пожалуйте! Грех это!..
Я остановился, постоял, затем повернулся и пошел. Не возникло у меня в душе ни злобы, ни упрека как к самому батюшке, так и к этой старушке. И учиться общаться с Богом мне также вдруг расхотелось. Пуста у меня была душа, безмолвна и бесстрастна…
В тот день я долго и бесцельно бродил по городу, и когда чувствовал усталость, то находил укромное место, ложился вниз лицом на мокрую траву и лежал… И — постепенно, исподволь, где-то внутри меня начало складываться понимание того, кто виновен во всех моих нынешних бедах. Виновных получалось много… «Что я им всем сделал плохого? — помимо моей воли зудела внутри меня мысль. — За что же они со мною так?.. Неужто лишь за то, что я — карлик и урод на этом свете? Карлик, проклятый карлик!.. Ах, мамка ты, мамка!.. Полюшка, Феюшка моя! И тебя-то я не уберег!.. Карлик, карлик, карлик!.. Окаянный урод!» «А ты им отомсти! — вдруг выстрелила во мне совершенно неожиданная мысль. — Нет, и впрямь — отомсти этому миру, отомсти этим людям, которые сделали для тебя столько зла! Отомсти за себя, отомсти за свою Феюшку, отомсти за мамку… за всех! Ты знаешь всех своих обидчиков — ну так отомсти им! И только тогда тебе станет легче, ибо только месть приносит облегчение! Отомсти им, и всему этому миру заодно!»
Никогда ранее ко мне не приходили подобные мысли. Никогда ранее мне не хотелось никому мстить. Мне хотелось просто жить, любить мою Феюшку, вместе с ней слушать, как за ночным окном шумит летний дождь или плачет зимняя вьюга… «Так ведь ничего этого у тебя никогда уже не будет! — снова выстрелила во мне нечаянная мысль. — Убили твою Феюшку, разве ты этого не знаешь? Убили! Их много, убийц, и все они тебе известны. Отомсти им. Это будет справедливо!»
И — я покорился терзавшей меня мысли. Да, отныне я буду мстить. Всем, кто загнал меня в угол, из которого нет выхода. Я буду мстить, и с каждым актом мщения мне будет все легче и легче…
Первым делом я решил навестить Семеновну. Я пришел к ней вечером того же дня, когда принял решение мстить. Почему именно с Семеновны я решил начать? Не знаю… С того момента, как я решил мстить, будто чья-то посторонняя и решительная воля руководила всеми моими действиями. Это — первое. И — второе: я решил начать с Семеновны именно потому, чтобы более никогда не бывать там, где еще недавно я был вполне счастлив. Да-да, теперь-то я понимал, что еще недавно я был счастлив: рядом со мною был человек, которого я любил и который любил меня, с которым мы жили вот в этой самой квартирке и ходили вот по этим самым улицам… И я отчетливо осознавал, что более одного раза пройти мимо этой квартирки (не говоря уже о том, чтобы в нее зайти) — это выше моих сил. Но на один, последний, раз меня должно было хватить…
Семеновна оказалась дома. Она была пьяна, однако еще не настолько, чтобы не испугаться моего прихода.

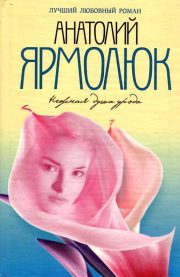
"Нежная душа урода" отзывы
Отзывы читателей о книге "Нежная душа урода". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Нежная душа урода" друзьям в соцсетях.