Графиня Лариш выражает свои мысли вполне в духе авторов "майерлингских романов”: вуалируя-приукрашивая истину и в то же время недвусмысленно давая ее понять.
И мы не можем не согласиться: без целомудренноиспорченной девочки "вамп” вся легенда о покончившем с собой принце гроша ломаного не стоит. Таинственность, эротика, слезы и все сметающая на своем пути страсть — эти необходимые для душещипательной истории атрибуты дает Мери. Собственно говоря, ничего более нам и не следует знать о ней.
Да и невозможно, даже если бы мы захотели. Ведь предметом горячих споров служит даже такой вопрос: каким же образом удалось ей в конце концов сблизиться с принцем? — ясно, что ответственность за всю трагедию падает на того, кто познакомил, свел их друг с другом. Мать Марии в своих мемуарах, рассчитанных на венский круг знакомых и напечатанных тиражом всего в несколько сот экземпляров (да и то беспощадно конфискованных), обвиняет в сводничестве графиню Лариш — и не без оснований (как мы увидим в дальнейшем), ведь последние месяцы именно она устраивала встречи, она прикрывала любовные свидания (точнее здесь не выразиться!), прибегая к мелкой и крупной лжи, поскольку бдительно охраняемой барышне из приличной семьи вряд ли удалось бы в одиночку, без присмотра, разгуливать по городу.
Графиня Лариш, естественно, снимает с себя ответственность — в ее воспоминаниях то и дело об этом говорится. По ее утверждению, девушка сама сделала решающий шаг: написала Рудольфу письмо, где объяснилась ему в любви и попросила о свидании. Графиня была ошеломлена, узнав о развитии событий, и с горечью обвиняет себя лишь в том, что не предугадала трагического исхода и не забила тревогу, предупредив семью. Что касается "ошеломления", то тут графиня наверняка преувеличивает, да и то задним числом: вся венская аристократия (в том числе и неугомонная баронесса Вечера-старшая, всего лишь два года как овдовевшая, но еще совсем не старая — каких-нибудь лет сорока!) во главе с принцем Рудольфом вела весьма свободный образ жизни. Рудольф частенько получал от дам лестные предложения (и под хорошее или, наоборот, под плохое настроение иной раз и пользовался ими), ведь наследный принц был магнетической фигурой, восходящей звездой, избранником божиим — надежда будущего, воплощение чаяний, кумир тайных воздыханий и нескрываемо пылких чувств. Да что там, в свое время даже у предшественника Франца Иосифа, известного своим слабоумием Фердинанда, и то находились поклонницы.
Однако страсть юной Мери к Рудольфу, похоже, выходила за рамки обычной любовной привязанности, она словно бы выражала общественные амбиции целого класса — буржуазии, оперившейся в монархии благодаря экономическому подъему, буржуазии не австрийской и не венгерской, а уже австро-венгерской. Этот вроде бы не пустивший глубоких корней новый класс, продвигаясь гигантскими рывками, овладел — в полном смысле этого слова — страной, империей. Нувориши строят железные дороги, они селятся на "императорских", то есть носящих имена эрцгерцогов и эрцгерцогинь проспектах сплошь по всей монархии — от Пешта, Кракова, Праги и даже Черновиц до их общего прототипа — венской Рингштрассе с ее наемными особняками; нувориши приобретают себе ранги и звания (по меньшей мере тайного советника), а их супруги осваивают еще не так давно считавшуюся аристократической привилегией моду, которая благодаря этому из чудачества и причуды вмиг превращается в крупнопромышленное предпринимательство, в неотъемлемый атрибут образа жизни целого класса — символ успеха, денег и власти. Но добиться истинной власти им все же не удается; они лишь нацепили на себя маскарадные костюмы и, опьяненные собственными успехами, кружатся в венском вальсе.
У Мери Вечера в генах был заложен инстинкт продвижения вверх. Это неимоверно яростное честолюбие было унаследовано ею как по отцовской, так и по материнской линии; оно и соединило обоих прадедов — менялу из Смирны и братиславского сапожника, которые, конечно же, при жизни никогда не встречались и лишь издали любовались сиянием императорской власти.
В те десятилетия, когда в свете заманчиво новой науки евгеники большое значение придавалось происхождению — короче говоря, крови, — выискивая предательские предзнаменования или, можно сказать, перст биологической судьбы, усердные исследователи майерлингской истории до мельчайших подробностей изучили родословное древо персонажей драмы, и благодаря этому мы лучше знаем предков Марии, чем ее самое. Пусть у нас получится очередное отклонение в сторону, но стоит, пожалуй, не без пользы и урока для себя, наспех познакомиться с этими предками. Ну и по ходу дела призадуматься над тем, скольким случайностям и закономерностям (исключениям и правилам) пришлось соединиться, для того чтобы произошла майерлингская трагедия, а также и над тем, сколь бесстыдно история пользуется в своей работе типичными, можно сказать, банальными ситуациями и фигурами.
Ну так вот. Сын братиславского сапожника, дед Мери по отцовской линии, был человеком уже вполне образованным; в 1848–1849 годах он занимал пост имперского комиссара в своем родном городе, и в том, что Братислава не свернула с верноподданнического пути, немалая и его заслуга. Он отличился применением энергичных мер (понимай: отправкой на виселицу евангелического священника Павла Разги[4]), в короткий срок положивших конец народному брожению. После восстановления порядка Франц Иосиф предложил выгодный пост и орденскую награду своему стойкому приверженцу, однако имперский комиссар Вечера, сославшись на то, что ему не хотелось бы еще более настраивать против себя население города, скромно, однако же весьма дальновидно взамен всех предложенных почестей испросил всего лишь стипендии для самого способного из своих сыновей, Альбина, который таким образом стал слушателем венской дипломатической академии, а по окончании учения — дипломатом, то есть членом привилегированнейшей касты того времени, куда удавалось пробиться лишь аристократам крови. Правда, к сорока годам, после четырнадцати лет карьеры, он дослужился лишь до скромной должности секретаря в константинопольском посольстве, но, вероятно, и этот ранг был достаточно заманчив, для того чтобы неимущий Альбин Вечера дерзнул просить в жены Хелену Балтацци — как пишет он сам, обращаясь к императору за разрешением на брак, "самую богатую девицу в Константинополе", да еще и завидной молодости — неполных семнадцати лет.
Этой женитьбой Альбин Вечера, в сущности, и свершил свое предназначение; неприметный, страдающий болезнью сердца человечек, бледной тенью кочует он с супругой и разрастающимся семейством из посольства в посольство, пока — в назначенный срок — не получает малый крест ордена святого Иштвана и прилагающийся к нему титул барона. Тем самым он сквитал свой долг перед супругой и судьбой. Таким образом Альбин Вечера (сколь ни гротескно это звучит) стал венгерским дворянином и с этих пор писал свою фамилию не Vetsera, a Vecsera, на венгерский лад, и сыновьям своим дает при крещении имена Ласло и Фери (sic!). (Один из них еще мальчиком станет жертвой пожара в венском "Бургтеатре", а второй погибнет в 1916 году на русском фронте.) Барона Альбина за два года до смерти его дочери Мери, в бытность его послом в Александрии, унесла сердечная болезнь; там же он и похоронен.
Хелена была последней из отпрысков Балтацци, кто еще удовольствовался баронским титулом (к тому же тогда лишь в перспективе); младшие братья и сестры Балтацци (всего их было девятеро) уже не соглашались на титулы меньше графского. Такие замашки как нельзя лучше свидетельствовали о росте престижа и богатства главы семьи. Фемистокл Балтацци был банкиром; звание это (в условиях Турецкой империи) являлось столь же растяжимым по смыслу, как и звание "финансовый советник", которое прилагалось к имени прадеда Балтацци. Представители этого рода из поколения в поколение попросту занимались тем, что делали деньги. Прадед Марии арендовал у казны — вкупе с прочими привилегиями — право взимать пошлину за пользование мостом в Галату[5], а дед был негласным компаньоном венской фирмы Ротшильдов во всевозможных подрядах, связанных со строительством железных дорог.
Звучащая на итальянский лад фамилия Балтацци по-турецки означает "дровосек", так называли истопников сераля, что, однако же, в средние века означало вовсе не тривиальную физическую работу, а звание вроде, скажем, конюшего при европейских дворах; должность эта была весьма доверительного свойства и облекала куда большим влиянием, чем можно предположить. Кстати, в родословной Балтацци и фигурирует некий мифический предок, который некогда, в восемнадцатом столетии, якобы и вправду состоял истопником при султане. Но скорее всего Балтацци происходили от итальянцев, прижившихся в Греции, или, может, из армян, как поговаривали в Вене, хотя родословная, восходящая к 1450 году и к Венеции, как правило, столь же сомнительна, сколь и графский титул, вдруг возникающий на какой-либо ветви фамильного древа.
Не гадая попусту, перейдем к тому моменту, когда зачисленные в различные австрийские военные академии юноши Балтацци со звучными именами Александр, Гектор, Аристид и Генри уже были титулованными особами. Фемистокл Балтацци — как и братиславский Вечера — оказался человеком дальновидным: он приобрел австрийское гражданство (как?) и принялся методично переправлять семью и имущество за пределы рушащейся султанской империи. Его отпрыски — все как один с оливково-смуглой кожей, черноволосые, лилипутского росточка, — каждый согласно своему рангу, получили супруг и супругов из обнищавших аристократических австрийских или мадьярских родов и по два миллиона крон на нос (баснословная сумма!) из отцовского наследства, чтобы на новой родине на них не смотрели свысока.
И все же их не спешили принять в новую среду. Мужским отпрыскам Балтацци удалось проникнуть в высшие круги лишь обходным путем, через Англию, и лишь после того, как Кишберу, их и поныне легендарному скакуну, посчастливилось выиграть в английском дерби — знаменитейшем из всех видов скачек, — а обладатели фаворита удостоились чести познакомиться с принцем Уэльским. Такая рекомендация значила в Вене побольше, чем сказочные два миллиона. Она позволила братьям вступить в жокей-клуб (в саду которого в 1916 году Гектор пустит себе пулю в лоб, чтобы уладить последний в своей жизни карточный долг), обеспечила им дружбу с подлинными аристократами, через которых можно было попасть в Гёделлё на охоту с борзыми и даже получить приглашение на королевские лисьи охоты в Капосташмедере. Балтацци, от природы жокейского роста, все были превосходными наездниками, а искусство верховой езды являлось немаловажным достоинством в империи, где королева-императрица считалась лучшей наездницей в стране. Так что не было для статуса ничего важнее, чем собственная конюшня со скаковыми лошадьми.

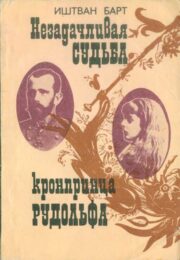
"Незадачливая судьба кронпринца Рудольфа" отзывы
Отзывы читателей о книге "Незадачливая судьба кронпринца Рудольфа". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Незадачливая судьба кронпринца Рудольфа" друзьям в соцсетях.