Обо всех этих подробностях нам "известно" от немецкого журналиста Эрнста Планица, родоначальника всех "рудольфологов", который побывал на месте происшествия через несколько недель после трагедии и опросил всех жителей деревушки. Тогда-то и насобирал он эти осколки и, кое-как склеив их, опубликовал в берлинских газетах, которые барон Краус не успевал конфисковывать в Вене. Недостоверные слухи о Майерлинге запрещались точно так же, как и достоверные.
Кстати сказать, по округе ходили легенды куда красочнее той, что сочинил Планиц: о ревнивом охотнике и его красавице-жене, о пьяной драке и проломленном бутылкой из-под шампанского черепе, о прусских агентах, шныряющих вокруг замка (извольте выбирать по вкусу). Последняя легенда, возможно, обязана своим возникновением как раз самому Планицу, намозолившему глаза всему селению.
Однако эти последние абзацы — лишь очередной и, возможно, вообще излишний изгиб нашей истории, которая, как мы знаем, становится все более запутанной. Забудем о нем; весь смысл его состоит в том, что вроде бы опять что-то случилось. Что-то произошло в Майерлинге, пока два высокопоставленных гостя охотились в горах. И произошло, должно быть, событие важное, иначе бы мы располагали точными сведениями, ну а если и не мы, то уж барон Краус знал бы наверняка. Под конец, когда вопреки всем своим сомнениям и колебаниям мы все же вынуждены будем выбрать одну из многих версий гибели Рудольфа и Марии, тогда, пожалуй, прояснится и картина этого суматошного дня, а читатель и сам с легкостью сможет (?) решить, побывал ли врач в замке и если да, то у кого. Разумеется, при условии, что этот вопрос будет нас волновать по-прежнему.
Ну, а пока вернемся к фактам — сколь бы неинтересными они ни казались.
Итак, вот вам если и не слишком интересный, то по крайней мере несомненный факт (достойный внимания уже хотя бы потому, что факты в этой нашей истории встречаются крайне редко): в то самое время, как барон Краус после мучительно неприятного визита графа Балтацци и баронессы Вечера, собрав все бумаги, поспешил на доклад к самому премьер-министру, князь Кобургский (надо полагать, разочарованный) спустился с засадной охотничьей вышки и с пустыми руками вернулся в замок, чтобы вместе с Рудольфом отбыть в Вену, поскольку ему также надлежало присутствовать на семейном ужине. Граф Хойос задержался на несколько часов в лесу.
Рудольф весьма приветливо встретил возвратившегося с охоты князя, рассказал ему, что весь день работал, не высовывая носа из дому, и все же состояние его ухудшилось, поэтому, к сожалению, он не сможет поехать в Вену. Попросив приятеля выручить его (телеграмма Стефании будет отправлена лишь позднее), изложить ситуацию царственному родителю, он, "нервно потирая руки, умолк; видно было, что какая-то мысль не дает ему покоя". Затем, поскольку князю уже пора было отправляться к поезду, принц добавил, что просит засвидетельствовать императору его сыновнее почтение.
С этим скудным сообщением Филипп, князь Саксен-Кобург-Готский, супруг другой бельгийской принцессы, свояк Рудольфа, и переступил порог зала, где эрцгерцоги и эрцгерцогини собрались отпраздновать семейное событие. (И нам наконец-то удалось вернуться к исходному пункту нашей главы!) Князь Кобургский, по-военному чеканя шаг, направился прямиком к Францу Иосифу и доложил, что (как нам уже известно) наследник просит его извинить, но, к сожалению, не может принять участие в семейном торжестве: он выехал в Майерлинг каретой, застрял на брайтенфуртской дороге и страшно простудился. К тому же в замке ужасный холод, печи протапливаются редко, и комнаты выстужены. Дай бог, чтобы наследника миновало воспаление легких.
При этих словах великие князья многозначительно переглянулись, — докладывает барону Краусу лакей, стоявший поблизости от их высочеств; мы, кажется, уже упоминали, что в силу природы вещей и холопской натуры лакеев чем незначительнее бывало само событие, тем подробнее о нем отчет получал шеф полиции. А великий князь Вильгельм (чье имя называет графиня Фештетич в связи с баронессой Вечера), которому о грозящих скандалом событиях двух последних дней, пожалуй, известно больше, чем остальным, из внешне невинного сообщения князя Кобургского (ведь у Вильгельма в понедельник обедал шеф столичной полиции), — так вот, великий князь уже в третий раз прикусывает губу, как узнаем мы из секретного донесения барону Краусу. Его высочество кусает губы не иначе как с досады и не желая дать волю гневу, презрению и даже ненависти, которая давно копится в нем по отношению к Рудольфу, легкомысленному и разболтанному юнцу и никудышному солдату. Рудольф и полком-то командовать не в состоянии, а туда же, рассуждает о реформе и обновлении военного дела, дерзая поучать его, Вильгельма! Зарвавшийся гордец может себе позволить это, потому что Франц недостаточно строг к своему отпрыску, многое спускает ему, а Рудольф не стесняется слишком далеко заходить в своих политических играх. Избави бог, чтобы этот развращенный хлюст когда-либо сел на австрийский трон! (Хотя, если вдуматься, подобные рассуждения задевают императорское достоинство, а великий князь не посягнул бы на это даже в мыслях. Однако Рудольфа он терпеть не мог всей душой, и этот факт не подлежит сомнению.)
Вильгельм не в силах подавить в себе злобу, но из уважения к императору осмеливается лишь заметить:
— Уму непостижимо, зачем понадобилось кронпринцу добираться в Майерлинг именно со стороны Брайтенфу рта?
— По всей вероятности, затем, — ничего не ведая и не подозревая, отвечает князь Кобургский, — что хеленентальская дорога в очень плохом состоянии. Я сам воспользовался ею и смею заверить ваше высочество, что там едва проедешь.
— Вот как? — взрывается седовласый генерал. — Я же смею заверить ваше высочество, что, как ни плоха хеленентальская дорога, она все же несравненно лучше брайтенфуртской. А посему прошу разъяснить мне, чего ради понадобилось его императорскому высочеству избрать именно этот путь? Уж не для того ли, чтобы простудиться?
Тут наверняка и германский посол прислушался к вспыхнувшему спору и, возможно, постарался незаметно приблизиться к их высочествам, дабы не упустить подробностей. Что касается существа спора, то тут князю Ройсу было все ясно: кто как не он сам изрядно потрудился над тем, чтобы поставить Рудольфа в изоляцию при дворе и подорвать его авторитет в глазах армии? Германский посол приложил руку и к тому, чтобы наследника даже близко не подпускали к важным делам; обойдя его чином, назначили главным инспектором над пехотой и гоняли в утомительные инспекционные поездки по окраинным гарнизонам. И пока Рудольф, подавленный собственным бессилием, наблюдал в бинокль за скоплением и перегруппировкой русских войск у границ далекой Галиции, великий князь Альбрехт в Вене мог нейтрализовать все начинания наследника. Да так оно и должно быть: ведь Германии (пока что) необходим мир на востоке, не ввязываться же ей в войну лишь в угоду Австрии! Австрия да пребудет сильной и единой, однако не настолько сильной, чтобы вести самостоятельную политику и заигрывать с Францией. В Берлине и без того считали Рудольфа чуть ли не французским шпионом, потому-то и протянулась из прусской столицы длинная рука Бисмарка, чтобы посадить наследника под стеклянный колпак. Причина общего возбуждения и нервозности, надо полагать, также была известна Ройсу: смысл парламентских дебатов в Пеште вокруг обсуждения Проекта национальной обороны[12] (настолько жарких, что они грозили чуть ли не правительственным кризисом) сводился к единству армии, то есть к будущему австрийской военной мощи, а стало быть, и будущему самой империи. Ведь Габсбургская империя, как это отлично понимали не только присутствующие, но и Рудольф (который даже писал об этом в своих статьях), в ту пору держалась лишь на армии, поставленной над нациями. Осведомлено ли уже императорское семейство о мятежном выступлении графа Каройи[13]? — должно быть, ломал голову Ройс. И что намеревается предпринять император? Отдал ли он какие-нибудь распоряжения? Ведь в Пеште даже уличный сброд оказался втянут в политику!
— Какой смысл спорить, — примиряюще вмешался великий князь Отто, возможно, перехватив неодобрительный взгляд Франца Иосифа, а может, заметив приближающегося германского посла. — Этим дела не поправишь.
Но тут подал голос великий князь Альбрехт, "победитель под Кустоцей”, "лев Новары", "мортарский герой", ветеран блистательно проигранных походов, возглавляемых младшими братьями, кузенами и дядьями Франца Иосифа, патриарх семьи, самый отъявленный среди Габсбургов реакционер, некогда военный правитель Венгрии. Вероятно, он решил, что ему надлежит подвести итог.
— Весьма прискорбно, что простуда отторгла наследника от лона семьи в столь знаменательный момент!
("Маршал — нервозный, дерганый, глупый, злой и беспомощный старик. Позавчера он повел себя по отношению ко мне столь недопустимым образом, что я решил сказаться больным и распроститься с делами — окончательно. Однако император упросил меня ради него остаться в армии, и я отступился от своего намерения". — Рудольф)
— Должно быть, болезнь действительно разыгралась не на шутку, — не унимался великий князь. — Кстати сказать, он уже вчера не явился на военное совещание; господа генералы битый час понапрасну ждали его. — Наверное, тут он бросил взгляд в сторону Франца Иосифа, который до сих пор не проронил ни звука, а затем продолжил в том же духе: — Хотя всем известно, с каким рвением относится наследник к своим воинским обязанностям… Конечно же, он расхворался всерьез, иначе не пропустил бы вчера столь важное совещание или по крайней мере известил бы, что не сможет явиться, чтобы его не ждали…
И тут хор дядюшек смолк. Никто не решался дальше развивать эту тему: ведь император молчал (или именно его слова не счел нужным зафиксировать информатор барона Крауса?), и молчание его было красноречивее любых слов.

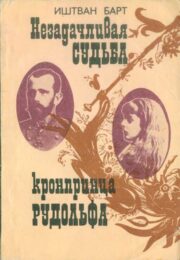
"Незадачливая судьба кронпринца Рудольфа" отзывы
Отзывы читателей о книге "Незадачливая судьба кронпринца Рудольфа". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Незадачливая судьба кронпринца Рудольфа" друзьям в соцсетях.