— Он проводил рукою по своим прекрасным черным кудрям и время от времени поправлял свой галстук.
Сосед Марсо, сидевший с ним рядом, обхватил руками голову, задрожал, из его уст послышался легкий свист; Марсо не обратил на него внимания и стал следить за Дантоном и его друзьями.
— Франт! — заметил Камилл Демулен о Сен-Жюсте. — Он так высоко ценит себя, так высоко держит на плечах голову, точно он коронованная особа.
Сосед Марсо поднял голову, и генерал узнал в нем красавца Сен-Жюста, бледного от гнева.
— А я, — громко воскликнул он, подымаясь во весь рост, — я заставлю тебя, Демулен, нести твою голову, как святой Дени.
Он повернулся, все расступились перед ним, чтобы пропустить его, и он вышел из театра.
— Ха, ха, ха! Кто же знал, что он так близко! — воскликнул со смехом Дантон. — Честное слово, письмо дошло по адресу.
— Ах, кстати, — обратился Филиппо к Дантону, — ты не читал памфлета Лайя на себя?
— Что, Лайя пишет памфлеты? Он переделал бы лучше своего «Друга закона». Любопытно почитать этот памфлет.
— Вот он.
Филиппо подал ему брошюру.
— И даже подписал его, черт возьми! Но он ведь не знает, что если не спрячется у меня в погребе, так ему свернут шею.
— Шт! Шт! Занавес поднимается.
Легкое шиканье пронеслось по залу; молодой человек, не участвующий в разговоре, продолжал, тем не менее, частный разговор, хотя действие уже началось. Дантон дотронулся до его плеча.
— Гражданин Арно, — вежливо, но с оттенком легкой иронии произнес он, — дай мне слушать, как если бы играли «Марию в Минтурнах».
Юный автор был слишком умен, чтобы не заметить просьбы в этих словах; он замолчал, и воцарившаяся тишина дала возможность слушать одно из наиболее скверных произведений — «Смерть Цезаря».
Тем не менее, несмотря на тишину, было очевидно, что никто из заговорщиков не забыл повода, ради которого он пришел сюда; они обменялись взглядами, знаками, становившимися более частыми по мере того, как актеры приближались к явлению, которое должно было вызвать взрыв. Дантон наклонился к Камиллу.
— Это будет третье явление, — тихонько заметил он.
И он повторял стихи одновременно с актером, словно желая ускорить его слова, когда явились те, которые предшествовали условленной сцене:
«Цезарь, мы ждем от твоей августейшей милости
Дара, самого драгоценного, благодеяния, самого справедливого,
Выше того управления, которое дано твоей добротой,
Цезарь.
— Что ты осмеливаешься просить, Цимбер?
— Свободы!»
Взрыв аплодисментов с трех сторон покрыл эти слова.
— Вот, сейчас начнется, — сказал Дантон.
И он наполовину поднялся с места, Тальма начал:
«Да, пусть Цезарь будет велик, но Рим пусть будет свободен…»
Дантон выпрямился во весь рост, озираясь кругом, как командующий армией, желающий убедиться, что каждый на своем посту, как вдруг взоры его остановились, словно прикованные к одному месту залы: в одной из лож приподнялась решетка, и из темноты показалось бледное лицо Робеспьера. Взоры двух противников встретились и не могли оторваться друг от друга; во взгляде Робеспьера отражалась ирония победителя, дерзость человека, чувствующего себя в безопасности. Дантон впервые почувствовал, как холодный пот выступил у него на теле; он забыл про сигнал, который должен был дать: стихи прошли незамеченными, без аплодисментов, без восклицаний. Он упал на место, побежденный. Решетка ложи упала, и все было кончено. Гильотинисты победили сентябрьщиков.
Марсо, озабоченный своими делами, почти не следил за пьесой и был, вероятно, единственным человеком, видевшим эту сцену, которая продолжалась всего несколько секунд, но ничего не понявшим в ней. Тем не менее он успел узнать Робеспьера, сошел с места и, выйдя в коридор, встретился с ним.
Робеспьер был спокоен и холоден, как будто ничего не случилось. Марсо представился ему, назвав свое имя. Робеспьер протянул ему руку: Марсо, повинуясь первому впечатлению, отнял свою. Горькая усмешка пробежала по губам Робеспьера.
— Что вам угодно от меня? — сказал он ему.
— Мне необходимо переговорить с тобою.
— Здесь или у меня?
— У тебя.
— Тогда идем.
И оба, охваченные столь различными чувствами, пошли рядом: Робеспьер — равнодушный и спокойный, Марсо — заинтересованный и взволнованный.
Вот он человек, который держал в своих руках судьбу Бланш, о котором ему пришлось столько слышать. Неподкупность его была очевидна, но его популярность представляла для него загадку. Действительно, чтобы завоевать ее он не употреблял ни одного из тех средств, которые выдвинули его предшественники. У него не было ни увлекательного красноречия Мирабо, ни отеческой твердости Балльи, ни горячей пылкости Дантона, ни неприличного многословия Гебера; если он работал для народа, так тихо, без шума и не отдавая отчета народу. Среди всеобщего упрощения в языке и в одежде, он сохранил вежливость в разговоре и элегантность в костюме. Наконец, в то время, как другие прилагали все усилия, чтобы смешаться с толпой, он старался подняться над ней. И с первого взгляда было ясно, что этот человек мог быть только или народным кумиром, или жертвой: он был тем и другим[2].
Они пришли; крутая лестница привела их в комнату на третьем этаже. Робеспьер открыл ее: бюст Руссо, стол, на котором лежали раскрытые «Эмиль» и «Социальный контракт», комод и несколько стульев составляли всю меблировку. Педантичная чистота царила повсюду.
От Робеспьера не ускользнуло впечатление, произведенное на Марсо этим видом.
— Вот дворец Цезаря, — сказал он ему, улыбаясь, — что вы хотите просить у диктатора?
— Милости моей жены, осужденной Каррье.
— Твоей жене, осужденной Каррье! Жена Марсо, республиканца древних дней! Сурового спартанца! Что творится в Нанте?
— Жестокости.
И Марсо нарисовал перед ним картину, известную уже нашим читателям.
Робеспьер во время его рассказа качался на стуле, не прерывая его; наконец Марсо замолчал.
— Вот как меня всегда понимают, — сказал Робеспьер хриплым от волнения голосом, — всюду, где мои глаза не могут видеть, там я не могу остановить бесполезного кровопролития!.. Довольно крови, нет никакой необходимости проливать ее, и мы вовсе не в таком отчаянном положении.
— Прекрасно, Робеспьер, прошу помилования моей жене!
Робеспьер взял чистый лист.
— Ее девичье имя?
— Зачем?
— Оно необходимо, чтобы установить личность.
— Бланш де Болье.
Робеспьер выронил перо из рук.
— Дочь маркиза де Болье, предводителя разбойников?
— Бланш де Болье, дочь маркиза де Болье.
— Каким образом она стала твоей женой?
Марсо подробно рассказал ему все.
— Я не прошу ни советов, ни упреков; я прошу у тебя милости; обещаешь ты мне даровать ее?
— Послушай, Марсо, семейные связи, влияние любви не заставят тебя изменить республике?
— Никогда.
— А если ты с оружием в руках очутишься лицом к лицу с маркизом де Болье?
— Я буду драться с ним, как это уже однажды было.
— А если он попадет к тебе в руки?
Марсо задумался на мгновение.
— Я отправлю его к тебе, и ты сам будешь его судьбой.
— Ты мне клянешься в этом?
— Клянусь честью!
Робеспьер взялся за перо.
— Марсо, — сказал он ему. — Ты был счастлив сохранить себя чистым на глазах у всех: с давних пор я уже знал тебя; с давних пор я хотел увидеть тебя.
Заметив нетерпение Марсо, он написал три первые буквы его имени, затем остановился снова.
— Послушай, — промолвил он, пристально смотря на него, — я, в свою очередь, попрошу у тебя пять минут: целую жизнь я подарю тебе за пять минут, — это, право, недорого.
Марсо наклонил голову в знак согласия. Робеспьер продолжал:
— На меня наклеветали перед тобою, Марсо. Между тем ты один из тех редких людей, которым я хотел бы открыться, и хотел бы, чтобы они знали меня; так что мне за дело до осуждения тех, кого я не уважаю? Итак, выслушай меня: три клуба, друг за другом хлопотавшие о судьбах Франции, воплотились в одном человеке и выполнили миссию, которая была возложена на них веком: конституционный, представленный Мирабо, поколебал трон; законодательный, воплощенный в Дантоне, сверг его. Задача Конвента громадна, ибо необходимо, чтобы он окончил разрушение и начал созидать. У меня явилась великая мысль: стать представителем этой эпохи, как Мирабо и Дантон были выразителями своей. В истории французского народа будут три человека, представленные тремя числами: 91, 92, 93. Если Высшее Существо дарует мне время окончить мою задачу, мое имя будет выше всех имен. Я совершу больше, чем Ликург у греков, чем Нума в Риме, чем Вашингтон в Америке, потому что каждому из них пришлось установить порядок в народе юном, только что родившемся, между тем как я имею дело с обществом дряхлым, которое мне необходимо возродить. Если я паду, Боже мой, избавь меня от богохульства в мой последний час… Если я паду раньше времени, поскольку я не выполню и половины того, что хотел сделать, на моем имени останется кровавое пятно, которое другая партия успела стереть с себя. Революция падет вместе со мною, и мы будем оклеветаны… Вот что я хотел сказать тебе, Марсо, так как я во всяком случае хочу, чтобы было несколько человек, которые сохранили бы мое имя честным и незапятнанным в своих сердцах, и ты один из них.
Он окончил писать.
— Теперь вот помилование твоей жене… Ты можешь уйти, не давая мне своей руки.
В ответ на это Марсо взял его за руку и крепко пожал ее; он хотел говорить, но слезы помешали ему вымолвить хотя бы одно слово, и Робеспьер заговорил первый:

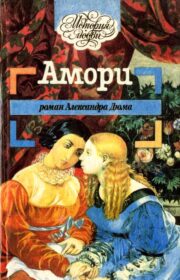
"Невеста республиканца" отзывы
Отзывы читателей о книге "Невеста республиканца". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Невеста республиканца" друзьям в соцсетях.