Этот прием, такой простой и естественный на первый взгляд, учитывая происходящие события, был удивительным. Нант изнывал под управлением Каррье.
Это было редкое зрелище для ума и для глаз — целый город обливался кровью от укусов одного человека. Спросят, откуда происходила эта сила, которую брала воля одного над 80.000 человек, которыми она управляла, и каким образом, когда один говорил: «Я хочу!» — все не решались сказать: «Прекрасно, но мы не хотим этого, мы!» Потому что в душе масс коренится привычка к повиновению, тогда как у отдельных индивидуумов является горячее желание быть свободным. Потому что народ, как говорит Шекспир, не знает иного средства вознаградить убийцу Цезаря, как сделать из него Цезаря. Вот почему бывают тираны свободы, как бывают тираны монархии.
Однако кровь лилась по улицам Нанта, и Каррье, бывший по отношению к Робеспьеру тем же, чем гиена бывает по отношению к тигру и шакал ко льву, досыта упивался ею в ожидании того момента, когда к ней примешается и его собственная кровь.
Средства для отправления на тот свет были совершенно новые: гильотина притуплялась так быстро! Он придумал утопление, название которого стало неразрывным с его именем. В порту были нарочно построены суда, всем было известно, с какой целью, и все приходили на верфь смотреть на них. Удивительною новостью являлись на корабле заклепки, размером с двадцать футов, которые выпадали, чтобы увлечь в пучину несчастных, обреченных на эту казнь. В роковой день испытания на набережной собралось столько же народа, сколько собирается на спуск корабля, с букетом на грот-мачте и флагами на всех его реях.
О, трижды горе тем, которые, подобно Каррье, употребляют свое воображение на изобретение разных способов убийства, потому что все средства для истребления человека легки для человека. Горе тем, которые без всякой теории совершали бесполезные убийства! Они стали причиной того, что наши матери дрожат при словах революция и республика, нераздельных для них со словами убийства и истребления; а наши матери воспитывают из нас людей. И кто из нас в пятнадцать лет, выходя из материнских объятий, не трепетал также при словах революция и республика? Кому из нас не приходилось перевоспитывать себя, прежде чем решиться хладнокровно разобрать эту цифру — 93, на которую он привык смотреть, как на роковую? Кому из нас не нужна была вся сила его двадцатипятилетнего возраста, чтобы взглянуть в лицо трех гигантов нашей революции: Мирабо, Дантона и Робеспьера? Но, наконец, мы привыкли к их виду, изучили место, где им пришлось двигаться, принцип, который заставлял их действовать, и невольно нам приходят на память слова другой эпохи: «Каждый из них пал только потому, что хотел остановить телегу палача, который не окончил еще дела». Не они опередили революцию, а революция их.
Однако мы не жалуемся. Теперь реабилитации делаются быстро, ибо теперь сам народ пишет историю народа. Не так было во время годов коронных историографов; не слыхал ли я еще в детстве, что Людовик XI был король, а Людовик XIV великий государь?
Но вернемся к Марсо и к семье, которую его имя защищало от самого Каррье. У нее была такая же чистая республиканская репутация, как у молодого генерала, так что подозрение не смело коснуться ни его матери, ни его сестер. Вот почему одна из них, молодая девушка шестнадцати лет, чуждая всему, что происходило вокруг нее, любила и была любима, а мать Марсо, боязливая, как все матери, видя в муже второго защитника, торопила, как могла, со свадьбою, которая должна была совершиться, когда Марсо и молодая вандейка приехали в Нант. Возвращение генерала в такое время удваивало радость свидания.
Бланш была предоставлена двум молодым девушкам, которые, обнимая ее, стали ее подругами; существует возраст, когда каждая молодая девушка думает найти вечную подругу в каждой, с кем она познакомилась час назад. Они вышли все вместе; одно обстоятельство, почти столь же значительное, как свадьба, занимало их — наряды. Бланш не нужно было больше ее мужское платье.
Вскоре они привели ее обратно, одетою в их платье; ей пришлось надеть платье одной и шаль другой. Безрассудные молодые девушки! Хотя всем трем было столько же лет, сколько матери Марсо, которая была еще прекрасна.
Когда Бланш вошла, генерал сделал навстречу ей несколько шагов и остановился в изумлении. Под ее первым костюмом он почти не заметил ее небесной красоты и ее прелести, которые, вместе с женским платьем, снова вернулись к ней. Правда, она сделала все, чтобы показаться прекрасной: перед зеркалом она забыла на мгновение войну, Вандею и битвы, потому что душа, хотя бы самая невинная, принимается кокетничать, лишь только начинает любить, и желает нравиться тому, кого любит.
Марсо хотел говорить и не мог произнести ни слова. Бланш, улыбаясь, протянула ему руку, очень довольная, так как видела, что показалась ему такой прекрасной, как желала.
Вечером пришел молодой жених сестры Марсо, а так как всякая любовь, начиная с любви чистой и кончая материнской, эгоистична, то в Нанте в этот вечер был дом, может быть, единственный во всем городе, где царили счастье и радость, в то время как вокруг него лились слезы и носилась скорбь.
О, как Бланш и Марсо отдались своей новой жизни! Другая же, казалась им, осталась далеко позади! Это был почти сон. Только время от времени у Бланш, когда она вспоминала об отце, сжималось сердце, и слезы катились из глаз. Марсо утешал ее; затем, чтобы развлечь ее, стал рассказывать о себе, о своих первых походах; как из школьника в пятнадцать лет он сделался солдатом, в семнадцать — офицером, в девятнадцать — полковником, в двадцать один — генералом. Бланш несколько раз заставляла его повторять одно и то же, поскольку во всем, что он рассказывал, не было ни одного слова про другую любовь.
Но, тем не менее, Марсо любил всеми силами своей души, по крайней мере он так думал. Потом вскоре его обманули, ему изменили. Презрение с большим трудом нашло себе место в его сердце, в котором еще только вчера бушевала такая страсть. Кровь, певшая у него в жилах, постепенно охладела, печальное равнодушие заменило восторженность; в конце концов Марсо до знакомства с Бланш был не более, как больной, лишившийся, благодаря внезапному исчезновению лихорадки, энергии и силы.
Итак, все эти грезы счастья, все элементы новой жизни, все обаяние юности, которые Марсо считал навсегда потерянными для себя, снова возрождались для него, пока еще где-то вдали, но все же в один прекрасный день он мог снова овладеть ими. Теперь же он удивлялся сам себе, что улыбка несколько раз возвращалась к нему и без всякого повода пробегала по губам; он вздыхал полною грудью и не чувствовал больше той тяжести, еще недавно не дававшей ему жизни, отнимавшей у него силы и заставлявшей его желать скорой смерти, как единственного убежища от смертельной тоски и страдания.
Бланш, со своей стороны испытывавшая к Марсо естественное чувство благодарности, приписывала этому чувству различные ощущения, которые волновали ее. Разве не понятно было ее желание постоянно чувствовать возле себя присутствие человека, спасшего ей жизнь? Могли ли быть для нее безразличными слова, слетавшие с уст ее спасителя? А его лицо, полное глубокой грусти, разве оно не должно было возбуждать в ней чувство живейшего сожаления? И, видя его вздыхающим, она каждую минуту готова была сказать: «Что я могу сделать для вас, мой друг, для вас, сделавшего так много для меня?»
Таковы были различные чувства, с каждым днем приобретавшие новую силу, волновавшие Бланш и Марсо первое время их пребывания в Нанте; наконец наступил день, назначенный для свадьбы сестры молодого генерала.
Среди драгоценностей, которые он приобрел для сестры, Марсо выбрал великолепную и ценную парюру и поднес ее Бланш. Бланш взглянула на нее сначала с кокетством молодой девушки, но затем вскоре закрыла футляр.
— Подходят ли драгоценности к моему положению? — промолвила она печально. — Мне — и вдруг драгоценности! Между тем как отец мой, может быть, переходит из одной фермы в другую, выпрашивая кусок хлеба, чтобы не умереть с голоду, ночуя в риге или сарае, чтобы не мокнуть под дождем; между тем как я сама осуждена… Нет, пусть моя скромность скроет меня от всех глаз; подумайте, что меня могут узнать.
Напрасно Марсо упрашивал ее; она согласилась взять только красную искусственную розу, находившуюся среди драгоценностей.
Церкви были закрыты; браки совершались в мэрии. Церемония была кратка и печальна. Молодые девушки сожалели об алтарях, украшенных свечами и цветами, о балдахине над головами новобрачных, под которым слышался сдержанный смех поддерживавших его шаферов, о напутственном благословении священника, говорившего: «Идите, дети, с миром и будьте счастливы!»
У дверей мэрии новобрачных ожидала депутация судовщиков. Чин Марсо доставил его сестре эту честь. У одного из этих людей, фигура которого показалась ему знакомой, было два букета. Один он поднес новобрачной, затем, повернувшись к Бланш, пристально смотревшей на него, он подал ей другой.
— Тинги, где мой отец? — сказала, побледнев, Бланш.
— В Сен-Флоран, — отвечал судовщик. — Возьмите этот букет, внутри его находится письмо. Да здравствует король и да настанут лучшие времена, мадемуазель Бланш!
Бланш хотела остановить его, поговорить с ним, расспросить его, но он исчез. Марсо узнал проводника и невольно удивился отваге, ловкости и преданности этого крестьянина.
Бланш с тревогой прочитала письмо. Вандейцы терпели поражение за поражением; все население бежало, отступая перед пожарами и голодом. Конец письма был посвящен изъявлениям благодарности Марсо. Благодаря бдительности Тинги, маркиз знал обо всем. Бланш опечалилась; это письмо вернуло ее к ужасам войны; она сильнее обыкновенного прижалась к руке Марсо, она говорила с ним, ближе наклоняясь к нему, голосом более слабым, чем всегда. Но Марсо хотел бы видеть ее еще более печальной, ибо чем глубже была ее печаль, тем меньше внимания она обращала на окружающих; а я уже говорил, что в любви много эгоизма.

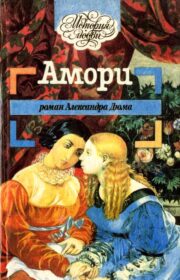
"Невеста республиканца" отзывы
Отзывы читателей о книге "Невеста республиканца". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Невеста республиканца" друзьям в соцсетях.