Оставшись один, Флип продолжал мерно работать руками. Какое ему дело до того, что больше нравится Вэнк? Он проворчал вслух: «Я и так достаточно хорош для неё… И вообще в последнее время ей ничем не угодишь!»
Явственное противоречие, заключённое в этих двух фразах, вдруг заставило его улыбнуться. Он перевернулся на спину, позволил солёной воде наполнить его уши гулкой тишиной. На солнце наползло маленькое облачко: Флип открыл глаза и увидел, как над ним пронеслись сероватые тела, тонкие клювы и поджатые в полёте тёмные лапки куликов.
«Что ей взбрело в голову? – ворчал про себя Флип. – Нет, ну до чего нелепый наряд. У неё вид обезьянки в кружевном передничке… Или мулатки, отправившейся к причастию…»
Рядом с Перванш сидела её младшая сестрёнка, почти точная копия старшей: на круглом загорелом личике, увенчанном снопиком прямых светлых волос, сияли голубые глаза, сжатые кулачки благовоспитанно покоились около тарелки. Два одинаковых белых платьица из органди с воланами, отглаженные и накрахмаленные, топорщились на сёстрах.
«Воскресное утро на Таити, – ухмыльнулся про себя Флип. – Никогда не думал, что она может быть так некрасива».
Мать, отец и тетушка Вэнк, родители Флипа и он сам сидели вокруг стола в зелёных свитерах, полосатых фланелевых куртках и пиджаках из тюсора. Здесь же присутствовал заезжий парижанин. В загородном доме, нанимаемом обоими семействами, царил утренний аромат горячих булочек и мастики для натирания пола. Среди по-пляжному одетых взрослых и смуглых детей седеющий господин, прибывший из Парижа, выглядел каким-то хрупким, бледным и по-городски нарядным иностранцем.
– Как ты изменилась, малышка Вэнк, – произнес он так, что было ясно: это комплимент.
– Это ещё как посмотреть! – раздражённо пробормотал Флип.
Приезжий склонился к уху матери Перванш и вполголоса зашептал:
– Она делается просто восхитительной! Неотразимой! И двух лет не пройдёт… вот увидите, сколь я прав!
Вэнк расслышала слова гостя, очень по-женски стрельнула взглядом в его сторону и улыбнулась. Пурпурные губы приоткрыли полоску ослепительно белых зубов, глаза, своей синевой напоминавшие барвинки, в честь которых её нарекли, полускрылись под светлыми ресницами. Флип был прямо-таки ошарашен: «Ба! Что это на неё нашло?»
В затянутой штофной тканью гостиной Вэнк подавала кофе. Она уверенно пробиралась между сидящими, ничего не задевая. В её движениях чувствовалось особое обаяние уверенной в себе акробатки. Когда порыв ветра опрокинул хрупкий столик, она ногой придержала готовый повалиться стул, подбородком прижала к груди кружевную салфетку, уже было подхваченную воздушным потоком, и всё это – не прекращая идеальной струйкой наливать кофе в чашечку.
– Вы только посмотрите на неё! – воскликнул очарованный гость. – Настоящая танагрская статуэтка.
Он заставил её пригубить шартреза, спросил, многим ли вздыхателям она уже успела разбить сердце в казино Канкаля…
– Что вы, какое казино! В Канкале нет казино!
Она смеялась, показывая ряд ровных крепких зубов, кружилась, как балерина, на носочках своих белых туфелек. Вместе с кокетством в ней проснулась женская хитрость: она вовсе не смотрела на Флипа, сидевшего насупленно в углу за пианино и огромным букетом синеголовника, что торчал из медного кувшина, и исподтишка следившего оттуда за всеми её эволюциями.
«Я ошибался, – признался он себе. – Она чудо как хороша. Вот так новость!»
Пока заезжий гость под аккомпанемент фонографа предлагал обучить Вэнк новому танцу «баланчелло», Флип выскользнул наружу и побежал на пляж. Там он плюхнулся во впадину между дюнами, уткнувшись лбом в скрещённые на коленях руки. Но и под смеженными веками не померк новый облик Вэнк, исполненной чувственной дерзости, приобретшей невесть откуда притягательную телесную округлость, блиставшей во всеоружии кокетства и лукавой строптивости…
– Флип! Вот ты где, Флип! А я тебя искала… Что с тобой?
Запыхавшись, юная чаровница опустилась рядом с ним и запустила пальцы в его шевелюру, пытаясь с милой робостью заглянуть ему в лицо.
– Со мной всё в порядке, – хрипло пробормотал он. И с неким страхом приподнял веки. Она ткнулась коленями в песок, немилосердно смяв с десяток воланов из органди, и ползала перед ним, словно покорная жена воина-индейца.
– Флип, ну прошу тебя, не сердись!.. Ты на меня за что-то в обиде… Но ты же знаешь, я тебя люблю больше всех. Скажи хоть что-нибудь, Флип!
Он искал в её облике следы того мимолетного блеска, что так ослепил и взбудоражил его. Но перед ним снова была его Вэнк. девочка-подросток, впавшая в отчаяние, поверженная преждевременно навалившимся на неё грузом угрюмой неловкой преданности, спутницы истинной любви… Он вырвал руку, которую она поцеловала.
– Оставь меня. Ты ничего не поняла, ты никогда ничего не поймёшь. Да встань же наконец!
И он принялся разглаживать измятое платье, вновь приладил распустившийся на груди бант, поправил взлохмаченные ветром волосы, пытаясь восстановить облик того таинственного идола, что привиделся ему в гостиной…
III
– От каникул осталось полтора месяца. Вот и всё!..
– Только месяц, – отозвалась Вэнк. – Ты же знаешь, что мне к двадцатому сентября надо в Париж.
– Зачем? Ведь твой отец каждый год свободен до первого октября?
– Всё так, но у мамы, у меня и у Лизетты с двадцатого сентября до четвёртого ноября останется не так уж много времени: платья для занятий, шубка, шляпа… и то же самое для Лизетты. Вот я и говорю: у нас, у женщин…
Лёжа на спине, Флип метнул вверх две полные горсти песка.
– О-ля-ля! «У вас, у женщин». Сколько суеты по такому нестоящему поводу!
– Куда деться. Вот ты найдёшь свой костюмчик заранее приготовленным на постели. И забот-то тебе останется только с ботинками, ты ведь покупаешь их в той лавочке, куда отец запрещает тебе наведываться. А остальное появится само собой. Вы, мужчины, довольно удобно устроились!..
Флип резко оттолкнулся от земли и сел, готовый дать отпор её ироническому наскоку. Но Вэнк и не думала издеваться над ним. Она подшивала розовую оборку к креповому платью под цвет её глаз, а её непокорные волосы, некогда остриженные «под Жанну д'Арк», отрастали медленно. Иногда она их делила у затылка на два соломенных пучочка и. перехватив голубыми ленточками, пускала вдоль щёк. Но после завтрака она потеряла один из бантов, и распустившийся пучок крылом прикрывал половину лица. Флип нахмурил брови:
– О Боже, Вэнк, что у тебя с причёской!
Она покраснела, несмотря на каникулярный загар, и, смиренно глянув на него, заправила непослушные пряди за уши.
– Придётся терпеть. У меня не будет настоящей причёски, пока волосы не отрастут. А эта – за неимением лучшей…
– Да, кратковременное уродство тебя, разумеется, смутить не может… – грубо оборвал он её.
– Клянусь, Флип, ты ошибаешься.
Пристыженный её мягкостью, он умолк, и она подняла на него удивлённый взгляд, поскольку не ожидала никакого великодушия. Да и он сам счёл, что это лишь временная передышка, вспышка чувствительности, после которой следует ожидать упрёков и ребяческих сарказмов – всего того, что он окрестил «гончим инстинктом» своей юной подруги. Но она лишь грустно усмехнулась. Улыбка, блуждавшая на её губах, была обращена к спокойному морю, к небу, по которому ветер протянул лёгкие перья облаков.
– Наоборот, очень бы хотелось выглядеть красивой, уверяю тебя. Мама говорит, что я могу ещё похорошеть, но надо запастись терпением.
Она отважно несла неуклюжую ношу своих пятнадцати лет, поджарая от неутомимого бега и лазания, просоленная и крепконогая, часто схожая с гибкой тонкой лозой. Но несравненная голубизна глаз, простой чистой формы рот уже могли служить законченным образцом женской грации.
– Терпение, терпение…
Флип вскочил, ковырнул носком сандалии сухой песок, в котором жемчужно поблёскивали мелкие ракушки. Ненавистное слово отравило послеполуденную праздность лицеиста на каникулах. В неистовстве своих шестнадцати лет он ещё мог притерпеться к безделью, неподвижной истоме летних дней, но сама мысль о необходимости ждать, о неуклонном течении жизни приводила его в отчаяние. Напружинив полуголую грудь, он с вызовом вскинул оба кулака к горизонту:
– Терпеть! У вас всех на устах одно это слово: у тебя, у моего отца, у учителей… Чёрт бы всех подрал!..
Вэнк отложила шитьё, чтобы полюбоваться своим спутником, которого переходный возраст явно щадил. Темноволосый, белокожий, невысокий, он рос медленно, зато уже с четырнадцати лет походил на маленького хорошо сложенного юношу и с каждым годом лишь немного подрастал.
– А что прикажешь делать, Флип. Так уж приходится. Тебе всё ещё кажется, будто стоит вот так потрясти кулаками, крикнуть: «Ах, к чёрту все!» – и что-нибудь изменится? Выше головы не прыгнешь. Тебе предстоит экзамен на бакалавра, если повезёт, тебя примут…
– Замолчи! – крикнул он. – Ты говоришь совсем как моя мать!
– А ты – как дитя неразумное! На что ты надеешься, бедняжка, при этаком нетерпении!
Чёрные глаза Флипа уставились на неё с ненавистью: его назвали «бедняжкой»!
– Ни на что я не надеюсь! – с трагическим надрывом воскликнул он. – И менее всего на то, что ты меня когда-нибудь поймёшь! Ты вот вся как на ладони – со своими розовыми оборками, возвращением в город, учением, мелочными заботами. А тут одна только мысль, что мне скоро стукнет шестнадцать с половиной…
Хотя в глазах Перванш ещё стояли слёзы обиды, ей удалось рассмеяться:
– Ох, вон оно что? Ты себе кажешься повелителем мира, потому что тебе уже шестнадцать? Это на тебя так подействовал синематограф?
Флип схватил её за плечо и яростно тряхнул:
– Я приказываю тебе замолчать! Стоит тебе открыть рот, и оттуда выскакивает какая-нибудь глупость… Я подыхаю, говорю тебе; я подыхаю оттого, что мне только шестнадцать! Будут проходить ещё годы и годы: экзамены, поступление в институт. Когда двигаешься как бы ощупью, спотыкаешься, начинаешь всё сначала, если не удалось с первого раза, снова глотаешь знакомую жвачку, если сразу не переварил и провалился с треском… Годы, когда перед мамой и папой надо делать вид, что тебе нравится избранная карьера, чтобы их не огорчать. И притом видеть, как они сами изо всех сил пыжатся, чтобы выглядеть безупречными и всезнающими, хотя понимают, что со мной, ещё меньше меня самого… Ах, Вэнк, Вэнк, я так ненавижу всё то, что мне предстоит! Почему нельзя сделать так, чтобы мне сразу исполнилось двадцать пять?

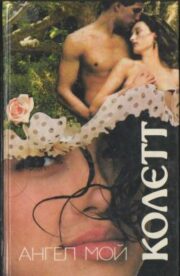
"Неспелый колос" отзывы
Отзывы читателей о книге "Неспелый колос". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Неспелый колос" друзьям в соцсетях.