— Исполни одну мою просьбу, — сказала она, отпуская, наконец, Джона. Она все еще смотрела невидящим, неподвижным взглядом, а губы пламенели на бледном лице. — Подари мне эти дни и будем любить друг друга просто, без обетов. Приходи сюда ко мне каждый день… и потом, к концу… мы поговорим о браке. Дай мне то, в чем я хотела отказать себе, дорогой мой мальчик: право быть счастливой и любить, ни о чем не тревожась.
Джон пытливо посмотрел ей в глаза, словно пытаясь уловить другой, скрытый смысл ее слов, но она улыбалась так, что он забыл задать вопрос. Забыл все, кроме того, что она — тут, рядом, что она снова — его.
Он был бледен от переполнявшей его сердце любви, ему не хватало слов.
— О, стоило ждать… потерять веру… терзаться… ради того, чтобы прийти потом к этой минуте! Поклянись, что любишь меня. Поклянись! Я не хочу жить без тебя.
Виола прошептала почти у самых его губ:
— Люблю, клянусь тебе. Неужели же ты этого не чувствуешь, когда касаешься меня? Неужели можешь еще сомневаться? Целуй меня и забудь страдания, сделай, чтобы и я забыла, сделай, милый!
Бурные рыдания вдруг потрясли все ее тело. На лицо Джона скатывались ее слезы. Дрожал и Джон, крепче обнимая ее, испытывая и боль, и радость. Радость оттого, что исчезло сопротивление, что женщина, плакавшая у него на груди, принадлежала ему. Оттого, что теперь, не отдавая себе в этом отчета, чувствовал в ней то безвозвратное подчинение одного существа другому, которое венчает любовь терновым венцом. И все, что было в Джоне хорошего, чистого и глубокого, слилось в одну огромную потребность беречь, грудью защищать эту женщину, окружить ее молитвенным обожанием.
Они встречались каждый день в саду за высокой стеной и любили друг друга и забывали обо всем на свете.
Если Чип и догадывался, он никогда ни о чем не спрашивал. Если леди Карней и знала, она не говорила ни слова. Она наблюдала, как расцветает вновь красота Виолы и как-то раз сказала ей об этом.
— Я так рада, — просто отвечала Виола и невольно добавила: — из-за Джона. Он разыскал меня и живет неподалеку от нас.
Она остановилась за стулом леди Карней.
— Вы считаете, что это дурно — брать от часа то, что он дает?
Леди Карней, не оглядываясь, погладила морщинистой рукой мягкую ткань белого платья Виолы.
— Дурно, хорошо — ужасно тяжеловесные слова, мой друг. Мне кажется, то, что можно как-нибудь объяснить и оправдать, нельзя считать определенно дурным, хотя наши суды держатся законом: «око за око, зуб за зуб». Добро — вещь относительная, это зависит от впечатления, какое ваши действия производят на других. Но зато в любви, слава Богу, есть только одно добро и одно зло. Добро — то, что вы делаете для любимого, зло — то, что только для самого себя и что неизбежно будет не в его интересах. После того, как вы возьмете свой час радости, вам придется сказать Джону: шестьдесят минут — это все, что мне угодно было подарить вам, потому что для меня так лучше. Ведь я верно поняла вас? Но как примет это Джон?
— Не знаю, — тихо сказала Виола, уходя в сад встречать Джона.
С ним, в его объятиях забывала о будущем, обо всем, кроме его близости и любви.
Любовь укрывает нас от смерти, злобы, страданий, даже лжи и обмана. Как во сне, сознаешь, что все это подстерегает за порогом, но пока любовь осеняет нас своим шатром, оно не тронет нас.
— Я в безопасности, пока я с тобой, — сказала как-то Виола Джону с омраченным взглядом.
Он поднял ее руку к губам и повторил лениво:
— В безопасности?!
— Да, от всех тревог, от себя самой.
Счастье делало Джона нелюбопытным. Ему только одного хотелось, — чтобы поскорее исчезла эта тень печали с ее лица.
— Ты будешь в безопасности от всего, что тебя мучает, дорогая, когда станешь моей женой.
— Это — запрещенная тема! — сказала торопливо Виола.
— О, срок истекает на будущей неделе. И тогда…
Она протянула руку и закрыла ему рот, говоря:
— Ты так далеко от меня, что приходится путешествовать за твоими поцелуями.
Вмиг Джон очутился возле нее на коленях и порывисто притянул ее за плечи к себе.
— Да неужели?! — Он тихо засмеялся от переполнявшей его радости. — Это с моей стороны небрежность, на которую вам, сударыня, не часто приходится жаловаться!
Виоле ужасно нравилась в нем эта насмешливая нежность, порою — мальчишески-грубоватая. Но сегодня она ей причиняла боль. Джон в ярком свете солнца казался так молод, так хорош, столько мужественности было в каждом его движении, несмотря на ленивую позу. Как будто для него только сиял этот дерзко-ослепительный день, все было для него, потому что он пришел со скипетром юности в руке.
И это-то заставляло внутренне трепетать Виолу, пока ее рассеянный взор переходил с темной склоненной головы возлюбленного на живую зеленую стену, по которой скользили серебряные пятна света.
Она думала: вот она, моя жизнь, — сад, огороженный высокими, отбрасывающими тень стенами, словно стерегущими меня. А жизнь Джона — как то открытое, необозримое пространство, что тянется за садом, уходит далеко-далеко, чтобы где-то слиться с небом.
И может ли она упрятать эту свободу за высокие стены, даже если Джон временно предпочитает те несколько экзотических растений, что он нашел здесь, бесчисленному ковру цветов на открытой ветрам, залитой солнцем равнине?
Он еще мало странствовал и видел — и поэтому его так привлекают изысканные цветы в огороженном саду, но позднее… Что будет, когда он увидит равнину?
Нет, ей нестерпимо играть в жизни этого юноши роль тюремщика. Это сознание делало ее и бесконечно печальной, и озлобленной. В чьей власти остановить время? Оно подкрадывается и подкрадывается, как неумолимый враг, и каждый день празднует незаметную победу. И любовь Джона, которой он хотел оградить ее, как щитом (о, ирония из ироний) открывала дорогу к мукам, означала смертельный удар по ее счастью.
И все же где-то в глубине души мерцала надежда на чудо, в которое не верила ее жизненная мудрость. Какой влюбленный не верит, что любовь заменит утраченное, достигнет невозможного? И любовь делает эти чудеса, если вера в нее велика. Ведь чудес, как таковых, никогда не бывало. Но вера — всемогуща.
Если бы мы глубоко уверовали в то, что можем сдвинуть горы, может быть, мы бы и сумели это. Но кто не усмехнется при таком предположении?
«Даже если все на твоей стороне, трудно сохранить любовь прекрасной, — говорила себе Виола. — А если против тебя такая сила…»
Она прижала к груди голову своего молодого друга.
— Ах, Джон, отчего ты не старше? Отчего мы с тобою не одних лет?
— Господи, кому это нужно? — Джон бросил в сторону папиросу и сжал обе руки Виолы.
— Милая моя, — сказал он с шутливым пафосом, — пока ты — это ты, мне больше ничего не надо. И ты в миллионы раз лучше, чем все молодые. Вот, например, у тебя было время усовершенствовать эту улыбку. Ведь я от этого только в выигрыше!
Он упорно не хотел серьезно отнестись к ее страхам. Было ясно, что пока его не беспокоит и не интересует разница лет.
— Пускай бы тебе было даже и сто лет, дорогая, — что же из этого? — говорил он посмеиваясь. — Клянусь душой, ни одна женщина не поднимает столько шуму из-за каких-то нескольких лет! Ты принимаешь иногда прямо трагический вид, говоря о них. Держу пари, что и сейчас тоже.
Он посмотрел на Виолу и с подавленным восклицанием выпрямился, положив ей руки на плечи.
— Я был прав, оказывается! Я вижу, Виола, что ты готова позволить, чтобы эта чепуха съела наше счастье? Господи, зачем это? Неужели ты думаешь, я такое дрянцо, что разлюбил бы тебя, если бы ты потеряла свою красоту? Я люблю женщину, которая любит меня, и она останется мне так же дорога, что бы ни случилось с блеском ее глаз, с волшебством ее губ. Виола, оставь ты это раз и навсегда! Через десять лет я буду обожать тебя точно так же, как сейчас, и жестоко с твоей стороны показывать, что ты не веришь в это.
Он, не замечая этого, так впился в ее плечи, что Виоле было больно.
— Ты теперь не можешь меня оставить, — сказал он резко. — Ты бросишь об этом думать? Ведь мы вросли один в другого, неужто ты не видишь? Я слыхал, как многие мужчины говорят о женитьбе, о будущих женах своих. И я тоже когда-то так, как они, смотрел на это. Но то, что я чувствую теперь к тебе, совсем другое. Ни одной мысли нет у меня, которая так или иначе не была бы связана с тобою… Я… я пытаюсь стать лучше ради тебя. Я думаю о нашем браке почти со страхом, как о чуде. Мне не верится, что ты — ты избрала меня из всех. Думаешь, я не знаю, какие люди любили тебя? Поверишь ли, может быть, это теперь звучит смешно… бывают минуты, когда я тебя стесняюсь, робею в твоем присутствии, право, Виола. О, радость моя, любимая моя, если бы ты от меня ушла сейчас, я был бы конченый человек! Не чувствуешь ты разве, что ты для меня? Как ты нужна мне?
Глаза у него из голубых стали черными, и в них была такая острая тоска и мольба, с такой отчаянной тревогой обнимали Виолу его руки, крепко прижимая ее к груди; она слышала, как неровно и громко стучало его сердце.
— Ты хочешь уйти, — бормотал он. — Хочешь уйти от меня!
— Да нет же, дорогой ты мой, радость ты моя, — никогда! Клянусь тебе. Как я могу? Разве ты не смел все в моей жизни, разве такая любовь, как твоя, может оставить во мне еще хоть каплю силы бороться? Дай взглянуть на тебя. О, глаза, в которых столько веры, столько обожания, губы, что говорили мне столько самых чудесных, самых сладостных слов, какие когда-либо говорились женщине, — как я могла бы уйти от вас? — Она снова прижала лицо Джона к своему плечу… — Разве я так тверда, так жестока? Я только об одном и думаю — о том, чтобы ты был счастлив, — слышал Джон ее шепот над собой. — К этому должен быть путь… я найду его! — Она вдруг замолчала, и улыбка исчезла с ее губ, но Джон не видел этого, потому что она все еще прижимала его лицо к себе. Через минуту она сказала уже другим тоном: — Ну, теперь все хорошо? Я прощена?

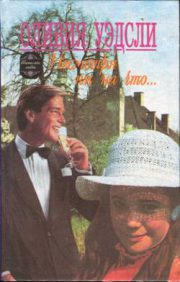
"Несмотря ни на что" отзывы
Отзывы читателей о книге "Несмотря ни на что". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Несмотря ни на что" друзьям в соцсетях.