— Простите, сэр, я забыл. Мне приказано передать вам это письмо.
Джон, ни слова не говоря, взял письмо и продолжал путь. Он машинально направился домой.
Только очутившись у себя в комнате и запершись, распечатал письмо. Прочитав его, некоторое время сидел, тупо уставившись на этот листок бумаги. Потом зажег спичку, поднес к письму и держал до тех пор, пока пламя не стало лизать его пальцы.
Виола обманула. Ушла. Он вышвырнут вон, сброшен с неба и барахтается в пыли. Вместо недавней экзальтации любви — разочарование, дикий гнев.
Письмо лжет. Если бы эта женщина любила его, она не могла бы проявить такую адскую жестокость.
В дверь постучал лакей. Джон отпер, ответил на его вопрос и через минуту снова вышел из дому и долго бродил бесцельно по улицам, ничего не замечая вокруг.
Из письма он с горечью понял, что Виола не хочет, чтобы он разыскивал ее, что она решила больше не видеться с ним. И он ничего не может сделать! Проклятое бессилие! Куда ни повернись — неприступная стена. Написать Виоле? Нет, он не станет писать, раз она приняла все меры, чтобы он не мог этого сделать.
Он ходил и ходил без конца по улицам, о которых никогда до сих пор и не слышал, по каким-то закоулкам, пристаням. Возвращался на те же места, откуда пришел, и не замечал этого. Он неотступно думал о Виоле, о ее поцелуях, о немногих счастливых часах, что они провели вместе, — и бессмысленность того, что случилось, сводила его с ума.
В конце концов он остановился у какого-то большого склада на пристани, чувствуя совершенное изнеможение. Глаза у него горели, все мышцы сразу ослабли, как после непосильно тяжелой работы.
Он понятия не имел, где находится. Здесь совсем не было движения и царил мрак. Джон только сейчас это заметил. Он чиркнул спичкой и поглядел на часы.
Было два часа ночи. А вышел он из дому в сумерки!
Он не мог думать ни о чем, кроме своей усталости. Стал искать, где бы переночевать. Протащился еще с сотню ярдов, не видя нигде огонька.
Добрел до какой-то арки. Лег под ней и уснул.
Когда проснулся, еще ощущая боль во всем теле, разбитом усталостью, был белый день.
Джон встал, подавив восклицание, и пошел отсюда так скоро, как позволяли онемевшие ноги. Он находился возле Ост-Индских доков. Проходил мимо уже работавших партий цветных рабочих. Китайцы окидывали его равнодушными взглядами. Порой какой-нибудь матрос отрывисто здоровался с ним.
Он шел долго, пока, наконец, не добрел до остановки автобуса, и попал домой часам к восьми.
Почему-то без всяких к тому оснований, он с тупой уверенностью ждал письма от Виолы.
Этот самообман, надежда на невозможное не умирает, пока жива любовь. И день за днем Джон угрюмо ожидал какого-нибудь известия, знака. Но прошла неделя — ничего. Он написал через ее банкира и снова день-другой тешился той же бессмысленной, отчаянной надеждой.
Июль прошел. Джон не хотел и пытаться разузнать через слуг Виолы о ее местопребывании. Чип никогда не упоминал о ней, Маркс был сильно занят и всегда в хлопотах.
В конце июля Джон приехал с Чипом и Туанетой в «Олд-Маунт», их родовую усадьбу.
Туанета, предвкушая веселые каникулы и вся сияя, прижималась к его руке и щебетала, ничего не подозревая:
— Подумайте, Джон, разве это не чудесно? Миссис Сэвернейк гостит у старой леди Карней, в «Красном». Мне говорила Надина де-Рош, внучатая племянница леди Карней. Она тоже едет туда на будущей неделе. Обожаю миссис Сэвернейк, на нее весело смотреть! А ее платья! Я буду одеваться точь-в-точь так же, когда выйду из монастыря!
— А ты знал, что миссис Сэвернейк в «Красном»? — спросил Джон у Чипа.
— Нет. Она мне недавно прислала письмо без адреса и писала, что хочет отдохнуть вдали от всех.
Так Чипу она писала! Ревность ужалила Джона.
Во всяком случае, теперь он увидит ее!
Он написал письмо и через полчаса после приезда в «Олд-Маунт» послал его с нарочным в «Красное». Но не успел нарочный уехать, как Джон верхом поскакал за ним вдогонку и, проскакав что есть духу целую милю, перехватил гонца уже на границе владений леди Карней.
— Отдайте обратно записку! — прокричал он, задыхаясь, схватил ее и сунул удивленному груму крупную подачку.
Разорвал письмо и повернул обратно. Грум поскакал вперед и скоро его фигура исчезла в зарослях.
Желание увидеть Виолу с такой силой овладело Джоном, что он вернулся и остановился, весь бледный, страдающими и злыми глазами глядя на маленькую калитку. Стоит только пройти в нее, дойти до дома и спросить Виолу…
Он пережил такие ужасные дни и ночи с тех пор, как она убежала от него! Если бы она хотела превратить его любовь в сумасшедшую тоску, то не могла бы придумать лучшего способа.
Джон смотрел на калитку так, словно она вела в землю обетованную. Потом рванул ее с силой и вошел.
Дорожка шла мимо небольшого участка обработанной земли. За этим участком начинался обнесенный стеной парк. Неподалеку от стены работал какой-то человек.
— Какой дорогой удобнее всего пройти к дому? — спросил у него Джон.
Человек посмотрел на него, почесал затылок и снова уставился на свою лопату.
— Удобнее всего? Да как сказать… можно и парком пройти, и садовой дорожкой, и вон той, что выходит позади дома.
Джон вынул полкроны и свою карточку, на которой написал:
«Я буду ждать до тех пор, пока вы не выйдете ко мне. Джон».
Сложил карточку и написал на обороте имя Виолы.
— Снесите это в дом и принесите ответ. Я подожду здесь.
— Это можно, — сказал медленно человек с лопатой, пряча в карман полкроны.
— Только, ради Бога, поскорее! — нетерпеливо попросил Джон.
— Ладно. Лопату я возьму с собой, — отозвался тот дружелюбно. Он ушел, оставив Джона одного среди низеньких, обмазанных какой-то серой массой деревьев.
Джон не знал, что скажет Виоле, и не заботился об этом. Только взглянуть на нее, услышать снова ее голос!
Он исхудал за эти недели муки. Лицо его приобрело какую-то сдержанную одухотворенность.
Наконец, посол воротился. Прислонил свою лопату и сказал, осторожно оглядываясь:
— В саду у солнечных часов, и тотчас же! Я вас провожу.
Он зашагал впереди Джона и заметил через плечо:
— Горничная тоже дала мне полкроны.
— Так вы не видели миссис Сэвернейк?
— Не могу знать: их там две было, одна-то горничная, та, что мне дала деньги.
Он остановился и указал на изгородь впереди.
— Вон там, — сказал он коротко и повернул назад.
Джон пошел дальше один. Дыхание в груди спирало, сердце билось неровными толчками. Пение птиц казалось ему оглушительным.
Запах нагретой солнцем хвои смешивался с благоуханием множества цветов. Джон прошел между живых зеленых колонн и увидел Виолу.
С минуту они стояли, глядя друг другу в глаза. Потом Джон ступил вперед и схватил руки Виолы.
— Не можете вы этого сделать! — сказал он невнятно. — Не можете… Невозможно нам быть врозь.
Он не поцеловал ее, только держал руки и смотрел на нее.
— Я не пытался искать вас. Я случайно узнал… сегодня… какой-нибудь час назад. Вы снова захотите быть жестокой? Виола?
Глаза Виолы были полузакрыты, на ресницах висели слезинки.
Джон, не сознавая, что делает, придвинулся ближе… еще ближе… и она оказалась в его объятиях. Отвернув лицо, почти касавшееся его лица, она ждала.
Он наклонил голову и утопил ее губы в своих, и пил их сладость, пока не исчезли из его глаз цветы, деревья, небо, и не замолкло вдруг пение птиц. Чудесная для обоих минута. Они могли целоваться потом тысячу раз, но с этим поцелуем ни один не мог сравниться.
Вокруг сиял и кипел летний полдень. Они были в зачарованном саду, в утраченном людьми Эдеме.
Джон глубоко заглянул в глаза Виолы:
— Полно, разве было это, разве мы расставались? Это нам снился дурной сон, а теперь мы проснулись.
Он уселся у ее ног на поросшей травой ступеньке, прислонив голову к ее коленям. Виола молчала, глядя вниз.
Так, значит, напрасна была вся борьба и усталость, страдания одиночества, пережитая тоска. Один взгляд на похудевшее, измученное лицо Джона — и ее отчаянная решимость, ее храброе самоотречение разлетелись, как дым!
Она прижалась щекой к его густым волосам.
— Что это такое в твоем поцелуе, в твоем прикосновении, что отнимает у меня все силы? — прошептала она. — Джон, если пойдешь мимо моей могилы, когда я буду уже прахом, я и тогда узнаю твои шаги и мой вечный сон будет нарушен.
— Не надо! — взмолился Джон. — Как можешь ты говорить о смерти в такой день, как сегодня?
Он целовал ее губы, целовал до тех пор, пока она не начала протестовать. Тогда он заглушил протесты новыми поцелуями.
И вдруг, продолжая стоять на коленях и крепко обнимая Виолу, спросил:
— Почему ты убежала от меня?
Она уцепилась за свою растаявшую уже решимость, за которую заплатила такой тяжелой ценой:
— Потому что ты так молод…
Она храбро встретила взгляд Джона.
— … А через десять лет я уже… не буду… молода… я не хочу, чтобы ты был связан.
— Связан! А ты полагаешь, без тебя я был свободен? Я был хуже, чем связан, вот что я тебе скажу. Я был как в тюрьме. Так и лежал на том месте, где ты меня бросила связанным, пока ты снова не освободила меня. О, как обидно, что все предстоящие нам впереди годы нельзя прожить в один этот летний день! Ты больше не убежишь от меня! Ты обещала через месяц назначить день нашей свадьбы. С тех пор прошло больше месяца. Скажи же сейчас, когда мы обвенчаемся? — его страстный и требовательный взгляд был прикован к лицу Виолы.
Виола, не отвечая, отогнула его голову назад и стала целовать так, как никогда еще не целовала — короткими, почти злыми поцелуями, в которых прорвалась вся ее исступленная любовь.

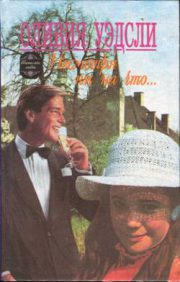
"Несмотря ни на что" отзывы
Отзывы читателей о книге "Несмотря ни на что". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Несмотря ни на что" друзьям в соцсетях.