— Так-то оно так, да… неужели ты не понимаешь, что… что теперь все выходит как-то по-другому?
— Но почему же? — голос миссис Теннент звучал устало. — Никто из твоих друзей не знаком со мною. Я жила тут в полном затворничестве, а ты бывал всюду, где хотелось. И никто не должен знать обо мне ничего, за исключением того факта, что я вышла замуж за Ричарда Вэнрайля. Жить мы будем с ним в Нью-Йорке, далеко от всяких сплетен и слухов. Свет забыл меня. Только моей матери была известна правда, но ее уже нет в живых. Тебя принимали в обществе только ради тебя самого, не интересуясь твоими родными. А теперь к тому же тебе предстоит блестящая карьера…
Вошел садовник за какими-то распоряжениями к миссис Теннент.
Джону захотелось уйти из этой серой с золотом комнаты, где только что испытал первый удар в жизни, туда, где свежий воздух и солнечное сияние. Выходя, он сказал, полуобернувшись к матери:
— Поеду покататься на лодке. К обеду вернусь.
Он выкатил из сарая маленький двухместный автомобиль, вскочил в него и понесся с бешеной скоростью вниз по склону холма, к городу.
Когда автомобиль помчался по аллее, начинавшейся от дома, перед глазами Джона мелькнуло на дороге знакомое увядшее лицо. Старая женщина доковыляла до красивых железных ворот виллы, постояла, пока автомобиль исчез в конце аллеи, и пошла по узкой дорожке, ведущей к оранжерее.
Она остановилась у дверей и позвала резко и громко:
— Мисс Рэн!
— Войдите.
Люси вошла и, приблизившись к Ирэн, лежавшей в кресле, остановилась позади. Ее старое лицо было угрюмо.
— Итак, вы сказали ему все, мисс Рэн? — начала она.
— Да.
— И он порядком расстроился, как видно, — сухо констатировала Люси.
— Я думаю, что он… никогда уже не будет относиться ко мне по-прежнему, — отозвалась миссис Теннент слабым голосом.
— Подождите, пока он узнает горе в жизни, — возразила старая Люси.
В ее глазах была тоскливая тревога, но слова звучали с презрением.
— Погодите, увидите, мисс Рэн. Мужчины все больно скоры на гнев, когда у них все хорошо и благополучно, но посмотрите на них, когда счастье им изменит и они нуждаются в утешении: тут-то уж и гнев и холодность как рукой снимет!
Она вдруг опустилась на колени у кресла.
— А что, он принял это очень близко к сердцу? Был груб к вам? — шепотом спросила она. — Так и следовало ожидать, что сперва погорячится! Но потом, когда напомнили ему, какой затворницей жили здесь ради него все эти годы, — он смягчился, да?
Она положила жесткую старую руку на белую руку Ирэн, нервно теребившую носовой платок.
— Ну, ну, не надо, не убивайтесь же так, дорогая! Нечего было и ожидать, что он все поймет и примет, как следует, — ведь вы его сами приучили думать, что кроме него ничего и никого для вас не существует. Такие, как он, мисс Рэн, нелегко примиряются с переменой в жизни. Мистер Джон теперь укатил на своей машине, а когда вернется, уже будет рассудительнее и будет готов… — она недовольно прищурилась, — готов простить. И вам придется это стерпеть…
Джон тем временем домчался до набережной в своем маленьком автомобиле. Перед его глазами расстилалось озеро. На густой синеве играли золотые переливы солнечного света и мелькали вдали яркие пятна парусов.
Рядом группа праздных туристов, видимо, людей состоятельных, торговалась с лодочником. Джон в ожидании своей лодки невольно прислушался к их разговору. Американцы!
— О, проклятье! — пробормотал он невольно, уколотый мучительным воспоминанием. Прыгнул в свою подъехавшую в эту минуту моторную лодку и отчалил от берега.
Он объехал все озеро, миновал Нион, Лозанну, Вевей, и, наконец, остановился отдохнуть в крошечной бухте.
Сидел сгорбившись, с опущенной головой, с трубкой в зубах.
Какая-то низменная ревность, с которой он не мог бороться, заставила его смотреть на роман матери, как на нечто неприличное. Да, таким это казалось ему. То, что она собирается делать, нелепо, необычно — и, значит, «неприлично». Это врывалось в его жизнь, переворачивало все вверх дном. И, кроме того, он чувствовал раздражение при мысли о том, как ловко его обманывали! Никогда ни одного слова, намека, никогда ни малейшего повода к подозрению!
Нет, просто комично, что ему ни разу не пришлось увидеть этого Вэнрайля, его отца.
И честное слово, порядочный эгоизм со стороны матери — уйти таким образом от сына.
А впрочем, может быть, ему будет легче жить отдельно от нее?
Так вот отчего она так преобразилась! Перемена в ней прямо бросалась в глаза. Он сразу заметил эту перемену еще вчера, вернувшись из Лондона. И удивился про себя.
Одно хорошо: теперь он будет абсолютно свободен, может поступать, как вздумается.
Несмотря на все огорчение и возмущение, юность взыграла в нем от этой мысли.
Но все же жизнь — прескверная штука, думал он. И вся эта история — очень неприятное осложнение в его существовании. Матери следовало бы рассказать правду много лет назад.
В душе поднималось какое-то непонятное чувство к ней оттого, что она своим молчанием заставляла его играть такую глупую роль. Он думал о будущем: кто-нибудь, где-нибудь (о, для этого всегда находится человек и место!) обнаружит истину и расскажет всем.
Джон как будто старался этими мыслями распалять в себе обиду на мать и на судьбу. И под влиянием этого чувства обиды он торопился вернуться обратно в Женеву. Ему многое надо сказать матери!
Несмотря на кипевшую в нем бурю, не мог не заметить сверкающего великолепия окружавшей его картины, безмятежной солнечной тишины этого летнего дня. Джон был чувствителен к красоте, как истинный поэт. Но, словно желая заглушить в себе это настроение, он еще быстрее разогнал лодку.
Симфония густой лазури водяных струй и золотого солнечного света, музыка, доносившаяся с пароходов, где играли маленькие оркестры итальянцев, наконец, это безотчетное ощущение счастья, какое испытываешь в лето своей жизни, — все это так не вязалось с его мучительными мыслями, его возмущением против судьбы и горечью по отношению к матери.
Он высадился напротив Бо-Риваж-отеля, так как с другой пристани в это время отправлялась какая-то экскурсия и там было очень людно и шумно. Отправился разыскивать свой автомобиль.
Джон был весь в белом, с открытой головой. Француженки весело поглядывали на него, бразилианки откровенно любовались, какая-то молоденькая итальянка нежно ему улыбнулась.
Он направил автомобиль в город через цветочный рынок, рассчитывая купить по дороге бензин.
На рынке цветочницы укрывались от солнца под огромными зонтиками, пурпуровыми и золотистыми, отбрасывавшими лиловые и лимонно-желтые тени. Бесчисленные гвоздики и розы благоухали так сладко и сильно, что, казалось в сверкающем воздухе разливалось какое-то сонное оцепенение. Женева всегда нравилась Джону; Женева — это Лондон без копоти и дыма и без его грандиозности, Париж — но маленький и не шумный. Неаполь — без его знаменитых запахов и кишащей на улицах толпы.
Но сегодня Джону хотелось поскорее уехать из этого чудного города и никогда больше не видеть его.
Он мчался по склону холма, торопясь домой, полный желания поскорее высказать матери часть того, о чем не мог думать без жгучей горечи.
Старая ферма приютилась у самых ворот «замка». Он поставил автомобиль в один из больших сараев и направился к дому. Ветви Иудина дерева гнулись под тяжестью бледно-коралловых цветов, почти касаясь широких каменных ступеней, по которым ползли пестрые трубочки гидрангий.
Джон прошел прохладную переднюю, ступая бесшумно на резиновых подошвах, и, поднявшись в свою комнату, позвонил лакею.
Но вошла Люси.
— Джордж ушел со двора, мистер Джон, — сказала она решительно и сухо. — Что вам угодно?
— Ушел… Вот как, — повторил с раздражением Джон.
Люси молча ждала. Он видел ее коричневое сморщенное лицо в венецианском зеркале напротив и прочитал в ее глазах то, что она думала.
— А вы разве не заняты укладкой? — спросил он.
— Нет, я не нужна барыне. У нее уж со вчерашнего дня все уложено, даже ремни затянуты.
Молодой человек засмеялся неприятным смехом.
— Тут смеяться не над чем, стыдно вам, мистер Джон, — сказала вдруг Люси резко. — Я могу приняться за укладку ваших вещей хоть сейчас. А свои соберу, как только узнаю, где вы намерены поселиться. Потому что я остаюсь с вами, чтобы вести хозяйство и присматривать за вами.
Джон был невольно тронут. Люси вынянчила его, но она служила его матери еще со времени ее девичества, и он отлично знал, что на «мисс Рэн» была сосредоточена вся ее привязанность. А между тем она готова отправиться за ним туда, где он пожелает жить, чтобы «присматривать» за ним.
Он вдруг уселся на свою кровать.
— Вам, конечно, было известно все, Люси, — сказал он жестким тоном. — Вас посвятили в тайну…
Люси спокойно и методично наводила порядок в комнате. Подобрала сброшенную им с подушки накидку, достала чистый носовой платок, принялась продевать запонки в приготовленные для Джона манжеты.
Он повторил свои слова, и тогда только она медленно повернулась к нему, продолжая возиться с манжетами.
— Вас любили еще до того, как вы появились на свет, — сказала она, — и окружали любовью постоянно, с минуты вашего рождения. Вы, должно быть, думаете, мистер Джон, что молодым леди нравится жить так, как жила ваша мать: в безвестности, одиночестве, никого не видя, никого не принимая, — и это с двадцати одного года и до сорока семи?! Если вы так полагаете, то очень ошибаетесь. А ваша мать делала это ради вас, для того, чтобы люди забыли о ней, чтобы никакая сплетня не коснулась вашего имени. И разве они не забыли? Разве когда-нибудь кто-нибудь обмолвился вам хоть словечком обо всем, что тут случилось когда-то? А отчего? Оттого, что ваша мать от всего отказалась. Жертвовать собой — такова уж материнская участь, все сыновья и дочери находят, что так и должно быть. Но есть такие жертвы, за которые ничем никогда невозможно отплатить. Поразмыслите над этим на досуге!

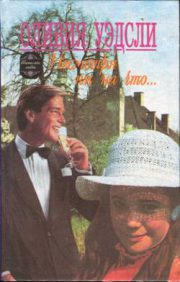
"Несмотря ни на что" отзывы
Отзывы читателей о книге "Несмотря ни на что". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Несмотря ни на что" друзьям в соцсетях.