Джон торопливо вышел из ресторана, то сжимая, то разжимая руки, тяжело переводя дух.
Чип был далеко, в Лейстершире. Маркс болен. Не к кому было пойти.
Джон пошел домой; но ему показалось нестерпимым сидеть в четырех стенах. Он снова вышел.
Много говорят об облагораживающем влиянии страданий. Может быть, оно так и есть, но непосредственным следствием пережитой бури является чаще всего упадок духа, пренебрежительное равнодушие ко всему в жизни.
Маркс, выздоровев и вернувшись к работе, нашел нового Джона. Такого же усердного секретаря, но совершенно индифферентного ко всему человека. Он не удивился: ожидал этой перемены и ничем не показал, что замечает ее. Ни о чем не расспрашивал Джона, только раз как-то осведомился о Чипе и Туанете. Оказалось, что Джон и сам очень мало знал о них и давно с ними не виделся.
Неожиданно, с первым веянием весны, насыщенным запахом цветущего миндаля, появилась в Лондоне миссис Вэнрайль.
В один прекрасный вечер она пришла на квартиру к Джону и, так как его не было, уселась дожидаться. Руки, поднявшиеся, чтобы развязать вуаль, заметно дрожали.
Люси сказала торопливо и немного растерянно:
— Вы стали снова такой, как были когда-то, мисс Рэн! Ну, совсем как барышня!
— Мне и кажется иной раз, будто я снова прежняя, Люси. Во всяком случае, я стараюсь… Ах, Люси, скажите мне: что, он очень переменился, очень убит?
— Переменился-то переменился, мисс Рэн, — сказала как-то неохотно Люси. — А убит ли? Право, не могу сказать. Он не дает себе потачки.
Вошел Джон, не подозревая о присутствии матери, и увидел ее: Ирэн сидела у окна, и голова ее четко вырисовывалась на фоне абрикосового заката.
— Ах, мама! Здравствуй! — вымолвил он с усилием.
— Мы… я… я была в Париже, милый. И подумала, отчего бы мне не съездить сюда повидаться с тобой.
— Очень, очень мило с твоей стороны. — Голос Джона звучал все так же холодно. — А где ты остановилась?
Она назвала отель. Совсем близко отсюда.
— Мы пообедаем где-нибудь вместе, а вечером в театр, хорошо? — предложил Джон.
— Мы бы могли обедать здесь… и побыть только вдвоем, — сказала мать с робкой улыбкой.
Джон вынужден был согласиться.
Во время обеда он трещал без умолку, почти не слушал ее ответов. Во взглядах, которые он украдкой бросать на мать, в его обращении с нею была какая-то смесь застенчивости и наглости.
— Я хотела бы, чтобы ты приехал в Париж, — сказала мать. — И отец, и я — оба очень тебя об этом просим. Он сейчас там.
То, что вырвалось сейчас у Джона, он никогда не способен был бы произнести до истории с Кэролайн.
— Будь я проклят, если поеду! — сказал он недоброжелательно.
Они были одни за кофе. Джон курил.
При последних его словах Ирэн поднялась. И старая, и новая боль проснулись в сердце Джона и подхлестывали его:
— Мне нет до него никакого дела! — продолжал он грубо. — Да и откуда взяться нежным чувствам? Ты перевернула мою жизнь, а теперь приходишь, рассчитывая, что все будет по-прежнему. Если бы не случилось того… что было летом, я бы…
Мать подошла к нему совсем близко.
— Джон, так ты меня осуждаешь? Отвечай же!
— Ах, осуждаю, не осуждаю — не все ли равно сейчас? Я только и делаю, что расхлебываю все время, а ты можешь стоять в стороне и считать, что ты тут ни при чем. Кэро, без сомнения, тоже утверждает, что она ни в чем не виновата: я не подходил ей, и она меня бросила, ради моего же блага, во имя истинной любви, которой не было между нами, и так далее, и так далее. О, знаю я все эти доводы, я на тысячу ладов переворачивал их в уме! До тебя, видно, дошли слухи об этой истории, вот ты и примчалась спасать меня! Милая мама, я не собираюсь падать духом, а, наоборот, еще более полон надежд, чем был, значит, и беспокоиться обо мне нечего!
— Да, очевидно. И жалеть тебя — тоже.
— Это уж как тебе угодно.
Он подал ей мех, перчатки, вуаль.
Но, дойдя уже до двери и открыв ее, Ирэн вдруг обернулась и крепко-крепко обвила руками сына.
— Когда-нибудь, — услышал Джон ее шепот, — когда-нибудь, когда ты сам будешь нуждаться в прощении — ты научишься прощать.
Через минуту она исчезла на лестнице.
На следующее утро Джон пришел к ней, чтобы сказать (с нарочитой небрежностью), что он, пожалуй, поедет в Париж, если ей этого хочется. «Что же, новое ощущение, любопытно!» — думал он про себя с ядовитым цинизмом.
Вэнрайль встретил их на пристани в Калэ.
Обменялся рукопожатием с Джоном и как будто сразу забыл о нем, сосредоточив все внимание на жене.
— Ваша мать, видно, очень устала, — сказал он Джону почти с сердцем. Джон, рисовавший себе несколько иначе эту первую встречу обидчика с обиженным, почувствовал, что теряет почву под ногами.
Отец был ниже ростом, чем Джон, но имел видную внешность и полные достоинства манеры. Он был так внимателен к жене, ничуть не подчеркивая этого, что в большой его любви к ней нельзя было усомниться.
Когда они с Джоном стояли одни на перроне и курили, Венрайль сказал:
— Лучше бы ваша мать не приезжала из-за океана, чтобы повидать вас. Боюсь, что это путешествие подорвало ее силы.
В Париже у них были сняты комнаты в «Бристоле». Джону отвели номер на другом этаже. Пока он принимал ванну и переодевался к обеду, его неотступно мучила мысль о нелепости ситуации.
Отец первый заговорил об этом, когда они прохаживались вдвоем по бульвару. (Миссис Вэнрайль ушла к себе тотчас после обеда.)
— Я полагаю, вы находите свое положение довольно любопытным? — сказал он со своей обычной манерой — бесстрастно и лаконично.
— Почему же? — спросил осторожно Джон.
Его отец коротко рассмеялся:
— Во всяком случае, оно ново!
И затем снова неожиданно спросил:
— А собственно, для чего вы приехали? Я догадываюсь, хотя ваша мать не говорила мне ни слова, что ее визит доставил и ей, и вам мало радости.
— Приехал я только из любопытства и от скуки, — в тон ему отвечал Джон.
— Надеюсь, первое удовлетворено, — сказал благодушно Вэнрайль.
Негодуя на Джона, он в то же время ловил себя на желании расположить его к себе. Голос крови давал все же знать себя.
— Послушайте, Джон, я ценю вашу откровенность, если не то чувство, которое вызвало ее. Мне кажется, что вы приехали сюда, чтобы уйти от самого себя. В этом вы очень нуждаетесь, как я вижу. Теперь, если вы ничего не имеете против, я бы хотел услышать что-нибудь об этой девушке, Кэролайн Кэрлью, и о том, как вам рисуется ваше будущее.
Никто до сих пор не заговаривал с Джоном о Кэро. Кровь бросилась ему в лицо.
— Обе эти темы не располагают к красноречию, — сказал он холодно. — Ни то ни другое меня в данный момент не занимает. С одним покончено, другое еще весьма туманно.
Судья Вэнрайль усмехнулся.
— Значит, два пункта долой, не так ли, Джон? — сказал он. — Извини, намерения у меня были самые лучшие. Я думаю, от вас, молодежи, не укрывается та нервность и неуверенность, с какой мы, старшие, порою подходим к вам. Твое отношение к нашему родству меня ни капельки не трогает, но я бы желал, если это возможно, сойтись с тобой на другой почве.
Во время дальнейшей прогулки он говорил о политических делах Америки, о своих друзьях в Англии, о других вещах, интересовавших одинаково обоих. Джон слушал, отвечал, был явно увлечен разговором.
Он лег в два часа ночи, утомленный, растерянный, но спал крепко, чего давно уже не случалось.
Вэнрайль, читая в душе Джона, усмехался про себя.
— Постарайся забыть о своей обиде, Джон, и давай будем друзьями, — сказал он однажды вечером.
Джон невесело засмеялся.
— А разве мы уже не друзья, сэр?
— Нет, еще не совсем.
Вэнрайль наклонился вперед. Обычно бесстрастное выражение его лица вдруг стало удивительно мягким.
— Джон, что нас, собственно, разъединяет?
— Ах, да все вместе! — разразился вдруг Джон. — Вопросы этики, моя старая обида, то, что вы и мама так спокойно принимаете все дело, — коротко говоря, тот факт, что некоторые люди расплачиваются до последнего цента, а другие — ничуть об этом не беспокоятся.
— Другими словами, твоя мать и я согрешили против морали и все же сейчас берем от жизни то, что в ней есть лучшего, — так где же справедливое наказание? Так, что ли?
— Вот именно, где же оно? — подхватил уничтожающе Джон.
— О, отчасти мы понесли уже его, отчасти — несем еще теперь. Твое поведение доставляет нам мало радости. Как видишь, искупление может принимать самые различные формы, оно даже может носить маску счастья, и благополучия, и любви. Если мое спокойствие возмущает твое «чувство справедливости», то рекомендую утешаться следующим фактом: твоя мать до сих пор не может простить мне того, что я являюсь причиной вашего разрыва.
— Какой абсурд! — пробормотал Джон вспыхнув.
— Тем не менее, это так. Никто никогда не остается безнаказанным, мой милый мальчик. И напрасно ты так сильно беспокоишься, как бы мы с Ирэн не увильнули от расплаты!
Джон поднялся и машинально стал смотреть в окно.
— Тут такая дьявольская путаница, — сказал он не оборачиваясь. — Жизнь ваша и ее в разлуке, потом вместе… моя жизнь за последние полгода…
— А все дело в том, что тебя не приучили платить свои долги. В этом твоя беда.
Джон медленно обернулся. Они скрестили взгляды.
— Я так и думал, что рано или поздно увижу это молчаливое признание, — сказал мягко Вэнрайль. — Жаль, что так поздно, потому что мы давно могли быть добрыми друзьями.
Джон вернулся в Лондон более уравновешенным, почти примиренным.
На подзеркальнике в передней лежала целая груда приглашений.

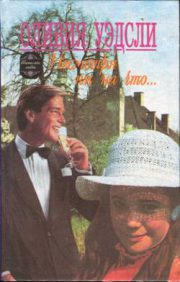
"Несмотря ни на что" отзывы
Отзывы читателей о книге "Несмотря ни на что". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Несмотря ни на что" друзьям в соцсетях.