К Чипу, в смущении теребившему свой рукав, Туанета приступила с настойчивыми расспросами.
— А что, он очень расстроен, Чип? — спросила она, дрожа от волнения.
— Это скверная история, — коротко отвечал Чип.
Но женское сердце Туанеты жаждало подробностей, точных сведений.
— Да, я знаю. Но, Чип, у него сердце окончательно разбито, как ты думаешь?
В эту минуту Джон вошел в гостиную и Туанета умолкла, зардевшись, объятая ужасным смущением. Она украдкой осмотрела долгим взглядом Джона, который, кинув ей ласковое: «А, девчурка, здравствуй!», уселся у стола и погрузился в чтение газеты.
Он был только очень бледен, и больше ничего. Не похож совсем на героя трагедии!
Туанета была окончательно сражена, когда Джон обернулся и сказал своим обычным тоном Чипу:
— Вот, прочти телеграмму, которую мне прислал Маркс по поводу выборов. Очень любезно с его стороны, правда?
Думать и говорить о выборах в момент любовной драмы! Туанета была прямо-таки шокирована. Но что сравнится с ее разочарованием, когда позже «страдающий от любви» Джон даже упомянул вскользь имя Кэролайн в каком-то деловом разговоре. Туанета отправилась «домой», к миссис Сэвернейк.
— Завтра мы все едем в Лондон, — объявила она. — Чип заедет за мной в одиннадцать. Ух!.. Сегодня вечером мне кажется, что нет ничего постоянного на свете.
Наутро заехал проститься Джон. Миссис Сэвернейк была в огороде, где робкое весеннее солнце вело неравную борьбу с поздними морозами.
— Что, уже обратно в город? — спросила она, стаскивая с маленькой ручки огромную садовую перчатку. — Я и сама через недельку-другую буду уже на Одли-стрит.
— На Одли-стрит и мой дом, — сказал Джон, уверенно глядя ей в лицо.
Она, очевидно, ничего не слыхала об этом футуристическом жилище, которое он приготовил для Кэро, потому что отозвалась совсем просто:
— Вот как! Значит, мы будем соседями. Вы навестите меня, надеюсь?
— Спасибо. С большим удовольствием.
Какая-то натянутость чувствовалась в разговоре. Оба словно выдавливали из себя нужные слова.
Джон, глядя на миссис Сэвернейк, вспоминал ту, другую женщину, которую он видел накануне, ночью, — а она все еще была во власти глухого беспокойства, проснувшегося в ней этой ночью.
— Вы были очень добры ко мне, — сказал с официальной вежливостью Джон.
— Вы что же, хотите, чтобы я чувствовала себя в роли милосердной самаритянки?
— Я, во всяком случае, лежу поверженный у дороги к политической карьере, — заметил Джон угрюмо. — Так что ваша роль вполне походит на роль самаритянки.
Оба они, говоря это, думали о другом ударе, более личного свойства. Миссис Сэвернейк поспешила отойти подальше от опасной темы.
— Но вы, разумеется, выставите свою кандидатуру в случае новой вакансии? Я с вашего разрешения приеду наблюдать сражение.
— Конечно, благодарю вас. И, надеюсь, тогда вы уже сможете меня поздравить с победой.
Он попрощался как-то церемонно и зашагал прочь, между серых кустиков лаванды и пышных тисов. Высокий, светловолосый, словно застывший, — не только от резкой свежести февральского утра, но и от холодной горечи разочарования.
Он был признателен миссис Сэвернейк за ее сдержанность. Подумал с некоторым пренебрежением, что застрахован от увлечения ею и не нуждается ни в чьей поддержке и сочувствии, как бы деликатно они не были предложены.
Джон возвращался в Лондон, к прежнему существованию, так резко, однако, изменившемуся теперь. Его пугало это возвращение, но ни за что не отложил бы его ни на один день. Поехал прямо к Чипу, не прочитал ни одного из писем, ожидавших его, переоделся, известил о приезде Леопольда Маркса и отправился в клуб обедать. В своем воображении он тысячу раз видел, как входит, представлял себе пересуды присутствующих, ту неловкость, какую и он, и они будут ощущать.
Он появился в столовой довольно поздно и, хотя ни один взгляд не встретил его твердого, вызывающего взгляда, ему казалось, что все смотрят на него.
Поздоровался с несколькими знакомыми, выслушал соболезнования по поводу неудачи в Броксборо, поговорил с минуту о пустяках и сел за свой стол. Он, казалось, слышал слова, которые при нем не произносились, чувствовал на себе взгляды, которые совсем не останавливались на нем.
Старый Джон Уайнокс, должно быть, сказал про него: «Он хорошо переносит это, хорошо». И потом стал в сотый раз выкапывать из могилы старые скандалы, любовные драмы, давно забытые всеми:
— Помню, как Чарли Кэрлью (который тогда еще был Чарли Хендс, это было еще до того, как он унаследовал титул) был помолвлен точно так же, как этот малый… как его? — Да, Теннент. — Помолвлен с одной из барышень Форнан, — Розали, красивой, как картинка, но настоящим чертенком, — и она дала ему форменную отставку точно так, как сейчас маленькая Кэрлью! И скажу вам, сэр, Чарли Кэрлью вошел сюда в клуб, пятьдесят лет тому назад, совершенно так же, как этот малый Теннент сегодня, с такой же дьявольской надменностью! Честь ему и слава!
Джон словно слышал каждое слово, и оно падало, как едкая капля, на открытую рану его самолюбия.
Он заставил себя есть. Окончив, перешел в курительную. Мужчины улыбались ему, либо неуверенно, либо чересчур приветливо.
Он вступил в разговор с тремя, которые сидели поближе, и стал рассказывать анекдоты о выборной кампании. Выходя, сказал себе: кажется, у Меня это вышло хорошо.
Когда за ним захлопнулась дверь, в курительной наступило молчание. Потом кто-то сказал: «Славный малый, этот Теннент», и все снова заговорили.
На лестнице Джон столкнулся с только что пришедшим лордом Кэрлью. Оба инстинктивно остановились.
— Я проиграл в Броксборо, сэр, — сказал ровным голосом Джон.
Лорд Кэрлью судорожно схватился за черную ленту своего монокля. Рука его показалась Джону как-то особенно старчески белой и увядшей. У него сжалось сердце.
— Надеюсь, я вас не испугал, сэр? — спросил он, и в первый раз за последние дни в голосе его была мягкость.
— Нет… нет… Но я не знал, что вы вернулись, Дж… Теннент.
— Вернулся и буду ждать следующего состязания, — бросил беспечно Джон. — А пока работаю у Маркса, как раньше.
Он простился и прошел мимо. А лорд Кэрлью подождал, пока он скрылся из виду, и, вызвав свой автомобиль, уехал обратно домой.
Маркс при первой встрече сразу же заговорил о делах, сообщил новости интересовавшего обоих мира и не сказал ни слова соболезнования. Он беседовал с Джоном, усевшись глубоко в кресле, сложив праздно на коленях тонкие руки, с дешевой папиросой в зубах.
А Джон, которому он так тактично облегчил встречу, весело улыбался, даже рисовался немного, а потом увлекся разговором и забыл о себе. Он вернулся домой уже немного успокоенный, без прежней горечи.
В спальне рукой несентиментального или просто нерадивого лакея фотографии Кэро были расставлены на старых местах. Джон увидел их сразу, как только зажег свет.
Он прислонился спиной к дверям и смотрел на них. Подумал, что в таких случаях полагается изорвать их в клочки.
В первый раз за эти дни он дал себе волю и подумал о Кэро, как о женщине, которую любил. До сегодня она была для него кем-то, кто сделал ему ужасное зло, ее образ был связан с представлением о низком предательстве. Но теперь она снова была его Кэро, тоненькая, золотоволосая фигурка с нежным и звонким голосом, со сводящей с ума причудливой грацией. Ни инстинкт самосохранения, ни обида больше не спасали от тоски по ней.
Он выбежал из комнаты и ходил по улицам до рассвета. Вернулся такой утомленный, что в первый раз ему захотелось спать.
Но сначала он вынул фотографии из рамок и запер их в стол; и только потом, как был, одетый, повалился на кровать и уснул.
Глава XI
После усилия наступает реакция. Любая поза, если она является средством самозащиты, становится мучительным бременем.
Джон работал, танцевал на балах, смеялся; кажется, не было человека веселее и беззаботнее его. Но никогда не заживающей раной в его памяти остался тот день, когда Кэро должна была стать его женой, и день, когда ему пришлось пойти в дом на Одли-стрит.
Он сдал внаймы весь дом, с египетскими фризами, золотыми и алыми украшениями, со всем, что в нем находилось, какой-то француженке-актрисе. Но до того, как она въедет, надо было обойти еще раз дом вместе с Люси. Джон уже снял комнаты в Сент-Джемсе и рассчитывал оставить у себя Люси и лакея. Он сообщил об этом Люси, когда они ходили по пустому, сверкающему пышностью дому.
Услышав это, Люси повеселела. Она любила Джона, и его унижение, его страдания глубоко отозвались в ее сердце. Она даже простила ему несправедливость к матери. Путешествуя из комнаты в комнату, она меланхолически делала критические замечания относительно деталей обстановки.
— Той даме, что переедет сюда, это, может быть, и придется по вкусу, мастер Джон, потому что она — француженка. Такие плоские ванны, верно, не в диковинку там.
«Там» означало все страны за пределами Англии; обитатели этих стран, по глубокому убеждению Люси, жили в условиях полуварварских, настоящее же благополучие царило лишь на благословенном острове британцев.
Джон задержался на минутку в комнате, о которой Кэро говорила: «Это будет только наша комната, Джон, здесь ты будешь отдыхать или мы будем вместе работать — и никому из посторонних сюда не будет доступа». О, жалкая пустота человеческих слов!
Джон был рад, когда очутился, наконец, на улице и повез Люси смотреть новую квартиру.
С устройством ее пришлось повозиться; работы у Маркса было много. Но Маркс неожиданно заболел, и Джон оказался предоставленным самому себе.
Мучительное страдание первых дней ожило в нем, когда он случайно столкнулся с Кэролайн и Рендльшэмом, которые оказались проездом в Лондоне: они направлялись в Ливерпуль, чтобы сесть на пароход. Злополучный случай привел Джона в маленький мало посещаемый ресторан, — и тут в ярко-синей шелковой шляпке, веселая, хорошенькая, сидела Кэролайн и, смеясь, разговаривала с Рендльшэмом. Они выглядели счастливой парой.

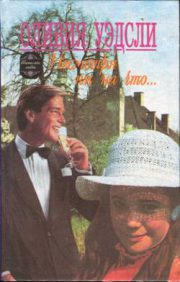
"Несмотря ни на что" отзывы
Отзывы читателей о книге "Несмотря ни на что". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Несмотря ни на что" друзьям в соцсетях.