Благодаря ее присутствию, Джон и Чип увидели совсем нового, незнакомого им Маркса. Они с Туанетой сразу стали приятелями: у них оказалась тысяча общих интересов, начиная от правил монастыря, где воспитывалась Туанета, и кончая замечательными качествами щенят в «Гейдоне». Одного из них — черное, как негр, существо с нелепо-беспомощными бархатными лапками и умными глазками — Туанета даже привезла с собой. Когда она упомянула о миссис Сэвернейк, Маркс сказал:
— Как же, я не только знаком, но смею надеяться, что имею честь состоять в числе ее друзей.
— Как вы хорошо это сказали! — восхитилась Туанета. Да, именно так следует говорить о ней.
Она наклонилась к Марксу с мягким блеском в глазах:
— Видели вы ее в аметистовом платье с коралловыми искрами? В нем она всего красивее.
Маркс тихонько засмеялся.
— Да, я видел миссис Сэвернейк в этом именно туалете, который вы так увлекательно описали. Но я часто видывал ее, когда она казалась «всего красивее».
Они поговорили, о новом друге Туанеты (Туанета уже успела влюбиться в миссис Сэвернейк по-детски доверчиво и восторженно). Потом перешли к злобе дня.
— Вы поможете Джону попасть в парламент? — спросила Туанета у Маркса. — Для него теперь в этом заключается все.
— Ну, не думаю, чтобы все.
— Во всяком случае то, чего ему больше всего хочется.
— О, женская проницательность! — усмехнулся Маркс.
— Видите ли, мистер Маркс… — пустилась в объяснения Туанета. — Жениться ведь всегда можно, а стать политическим деятелем, как видно, очень трудно. А вы намекали на невесту Джона, когда говорили, что у него есть еще кое-что?
— О, Порция, вы меня приводите в трепет! — продекламировал Маркс с галантным поклоном.
Туанета зарумянилась от смущения и сказала со смехом:
— Чип говорит, что я чересчур развязна. Должно быть, я сейчас была такой? Все забываю, что вы — ужасно известный адвокат и мне бы надо только слушать и не выскакивать со своими замечаниями. Но что же делать, если вы говорите вещи, на которые ужасно хочется ответить?
— Что за прелесть эта девочка! — шепнул с легкой грустью Маркс, когда Туанета убежала одеваться для собрания.
Он взял на колени щенка, а тот, положив доверчивую черную лапу на его руку, сонно уставился на огонь.
Туанета возвратилась уже в пальто и меховой шапочке, с предназначавшейся для Маркса розеткой в руке. Она приколола ее Марксу на грудь и сказала торжественно:
— Вот, мне удалось украсить члена парламента!
— Вы сделали больше, — сказал Маркс, — и никогда не догадаетесь об этом.
Туанета, однако, желала вести серьезный разговор о политике. Ее собеседник от души согласился с нею, что палата общин очень бы выиграла, если бы допустили туда женщин.
— Есть множество вещей, в которых мужчины ничего не понимают. Ну, например, законы о труде детей, ясли, дома для девушек-работниц, и зашита лошадей, и праздники для бедных. Все это — женское дело.
Она говорила с видом опытной особы. Рассказывала об уроках воспитательниц. В монастыре воспитательницам полагалось помогать бедным из своих карманных денег.
— Подумайте, полкроны в неделю! — сказала она трагически. — Вот сколько Чип мне назначил, а из них два шиллинга всегда идут в копилку для бедных! И если при этом у вас есть еще какая-нибудь слабость — с шестью пенсами много не сделаешь! Моя слабость, — прибавила она со вздохом, — это одно семейство.
— В самом деле? — подал реплику, видимо, глубоко заинтересованный слушатель.
— Да, итальянское. На углу нашей улицы. Отца нет, только мать, конечно, и трое малышей — Беппо, Карло, Аннунциата. Приходится мне, знаете ли, обшивать их и покупать на свои деньги материю. Последний раз фуфаечка Аннунциаты оказалась ей узка. Пришлось написать Чипу, а он возьми и пришли целый ящик их.
— Вот это славно! — серьезно заметил Маркс.
— Нет, они не годились. Он прислал фуфайки для взрослых, а Аннунциате только пятый год. Так что все досталось матери, а я вовсе не о ней хлопотала. Я ее не люблю.
Она приняла оборонительную позу.
— Ведь не можешь любить всех, кого полагается? Вы, например, могли бы?
— Не мог бы, конечно. Боюсь, что даже и тогда, если бы они любили меня.
Туанета кивнула с довольным видом.
— Вот видите! И я тоже не могу. А когда я сказала про это сестре Мари-Луизе, она меня оштрафовала на три пенса за дурные мысли. В следующий раз придется, верно, платить целый шестипенсовик, потому что с той поры я невзлюбила синьору Люсоли еще больше, чем прежде.
— Да, это очень дорого обходится — откровенно выказывать свою антипатию, — сказал рассеянно Маркс. — Некоторые платят тысячи за эту привилегию.
— Я не люблю этих крайностей, — продолжала думать вслух Туанета, — ни в чем, кроме любви. Тут уж иначе нельзя! Либо изо всех сил, по-настоящему, либо совсем не надо.
На митинге Маркс начал свою речь именно этими словами.
— «Либо по-настоящему, либо совсем не надо» — это хороший девиз для политического деятеля, — произнес он и успел увидеть, как вспыхнуло и просияло личико Туанеты, спрятавшейся за спину миссис Сэвернейк.
Собрание в этот вечер было очень шумным и утомительным. Люди Дерэма определенно стремились сорвать его. Но, в конце концов, Маркс сумел успокоить толпу и говорил дольше, чем рассчитывал. После него выступил Джон.
— У вас есть все, что вам нужно, сударь, — крикнул ему кто-то из толпы. — Где вам понять нас? Мы хотим послать в парламент человека, который чувствует так же, как и мы, и будет отстаивать наши интересы.
— Я тоже мыслю и чувствую, как вы, — твердо возразил Джон. — Если вы пошлете меня, моя победа будет вашей победой, мое поражение — вашим поражением…
Но его слова не произвели впечатления, чувствовалось, что сегодня между ним и толпой нет контакта. Несмотря на успех, который имело выступление Маркса, митинг был неудачен для Джона.
— Скверно, — резюмировал свои впечатления Джон. — Но у меня еще остается завтрашний день.
Они с Чипом и Марксом отправились к миссис Сэвернейк, которая уже уехала раньше с Туанетой. Ужин в столовой «Гейдона» был сервирован на круглом столе, освещенном свечами. В старинном огромном камине, выложенном оранжевыми плитками, трещали поленья. Хозяйка спустилась вниз в нарядном черном туалете и ласково поздоровалась с гостями.
Подавленное настроение Джона улетучилось как по волшебству. Маркс был остроумнее, Чип — благодушнее, чем всегда.
Джон наблюдал то одного, то другого, потом переводил глаза на миссис Сэвернейк и думал: эта женщина умеет заставить человека выявить все то лучшее, что есть в нем.
Тускло-золотой свет свечей отражался в синеве ее зрачков, делая эту синеву гуще обычного. Улыбка сегодня чаще мелькала на губах. Джон видел только эти великолепные синие глаза под черным кружевом ресниц да тихую, полунежную, полузадорную улыбку. Видел даже тогда, когда не глядел на миссис Сэвернейк. И твердил себе в каком-то изумлении: «Да, вот это настоящая красота!»
Миссис Сэвернейк беседовала с Марксом. Разговор ее блистал остроумием. Глядя на нее, Джон впервые остро почувствовал, что женщина может иметь огромное влияние на жизнь мужчины. Он уже жаждал стать другом миссис Сэвернейк. Вспомнил слова Маркса, сказанные Туанете. Да, быть ее другом — это честь.
— О чем вы думаете, мистер Теннент? — спросила она неожиданно. — У вас такой вид, словно вы унеслись мыслями далеко от земной юдоли.
Она улыбалась ему той улыбкой, которая путала мысли Джона, вносила смятение в его душу. Как он мог сказать ей, о чем думал — ведь это о ней! Джон вдруг почувствовал, что густо краснеет, что у него идиотский вид, — и сказал торопливо:
— Да, я замечтался, но все это так туманно… не стоит рассказывать.
— О, если то были мечты, тогда не следовало будить вас. Этого ничем не возместить. Мечты дороже рубинов, они — самое ценное, что у нас есть.
— Виола, что за ересь вы проповедуете, — заметил Маркс лениво.
— Кто же станет отрекаться от права мечтать, создавать себе иллюзии? — возразила мягко миссис Сэвернейк. — Кто не захочет побывать в этом мире, где невозможное становится возможным, где обещанное нам осуществляется?
— Джон, принадлежали вы когда-нибудь к этой школе? — спросил коварно Маркс.
— Жалею, что не принадлежал, — честно ответил Джон.
Миссис Сэвернейк покачала головой.
— Избирателям мечтатели не нужны! Вообразите себе физиономию этого джентльмена в клетчатом пальто, который так сурово обошелся с вами сегодня вечером, если бы он узнал, что вы намерены предаваться мечтам в парламенте!
Джон присоединился к его смеху.
— Нет, — сказал он, — хоть я и занят политикой, мне нравится ваша теория о мечтах и иллюзиях.
— Ну, тогда вы не совсем безнадежны, Теннент, — подхватил Маркс.
— Ага! И это говорит тот, кто обозвал меня еретичкой! — весело глянула на него миссис Сэвернейк.
После ужина перешли в будуар и расположились вокруг камина, как в тот вечер, когда Чип, Джон и Туанета приезжали сюда в первый раз. Сквозь абажур единственной горевшей лампы лился опаловый полусвет.
— Вы создаете вокруг себя атмосферу мира и покоя, Виола, — промолвил вдруг Маркс. — Или это старый дом так настраивает?
— Принимаю ваш двусмысленный комплимент, потому что вы, я уверена, сделали его от души. Но мне не очень приятно, что я кажусь другим такой «спокойной». Это напоминает о старости. От таких слов я чувствую сразу лишний десяток лет на плечах.
— Некоторые женщины никогда не стареют, вы — из таких неувядаемых, — заметил Маркс.
— Увы! Есть на свете горничные, парикмахеры, портнихи — от них узнаешь правду!
— Ну, они не в счет. Для женщины должно быть важно свидетельство одного лишь человека: того, кто ее любит.

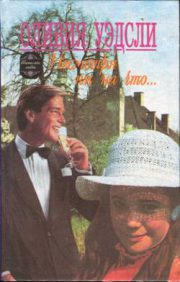
"Несмотря ни на что" отзывы
Отзывы читателей о книге "Несмотря ни на что". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Несмотря ни на что" друзьям в соцсетях.